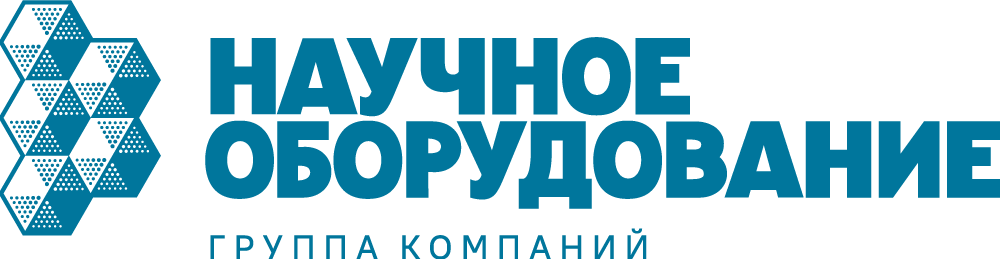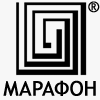- Indico style
- Indico style - inline minutes
- Indico style - numbered
- Indico style - numbered + minutes
- Indico Weeks View
LXXV International Conference «NUCLEUS – 2025. Nuclear physics, elementary particle physics and nuclear technologies»
→
Europe/Moscow
St. Petersburg State University
St. Petersburg State University
Description
The conference will take place at Saint Petersburg State University (SPbU) and it is devoted to the actual nuclear and high energy physics problems, nuclear medicine, neutron and synchrotron research and their applications. This is the oldest international nuclear conference in Russia and also one of the oldest worldwide (established in 1951). The main conference program will cover a rather broad range of topics.

The aim of the conference is the discussion of the latest results on:
- Experimental and theoretical studies of nuclei.
- Experimental and theoretical studies of nuclear reactions.
- Modern methods and technologies of nuclear physics.
- Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics.
- Physics of neutrino and nuclear astrophysics.
- Neutron and synchrotron research and infrastructure for its realization.
- Nuclear medicine.
- Nuclear physics methods in application to the study of cultural heritage.
The program will include plenary, oral and poster presentations.
The working language of the Conference is Russian and English.
Only in-person participation is possible.
Important dates
Abstract submission deadline: 29 April 2025 (Extended!)Abstract notification: 15 May 2025
Конференция состоится в Санкт-Петербургском Государственном Университете и будет посвящена актуальным проблемам ядерной физики, физики высоких энергий, ядерной энергетики и ядерной медицины. Также внимание будет уделено исследованиям с использованием синхротронного излучения и нейтронов. Конференция является старейшей в России и одной из старейших в мире по ядерным исследованиям (проводится с 1951 года). Основная программа конференции охватывает широкий спектр научных направлений.

Целью конференции является обсуждение последних результатов по следующим темам:
- Экспериментальные и теоретические исследования свойств атомных ядер.
- Экспериментальные и теоретические исследования ядерных реакций.
- Современные ядерно-физические методы и технологии.
- Релятивистская ядерная физика, физика элементарных частиц и физика высоких энергий.
- Физика нейтрино и астрофизика.
- Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации.
- Ядерная медицина.
- Ядерно-физические методы в изучении объектов культурного наследия.
Программа будет включать пленарные, устные и стендовые доклады
Рабочие языки конференции — русский и английский.
Предусмотрено только очное участие.
Важные даты
Срок подачи тезисов: продлен до 29 апреля 2025Уведомление о приеме тезисов: до 15 мая 2025
Организаторы
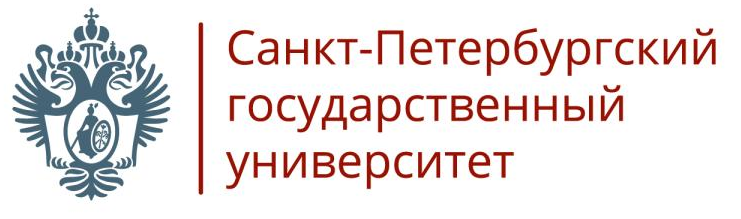 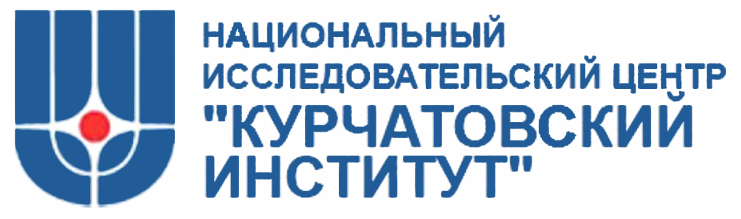 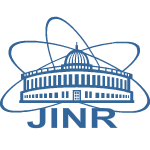 |
Партнеры
Contact
Participants
Abdulbosit Mukhammadsoliev
Abdullah Shehada
Ahmed Mohammed
Aida Galoyan
Aleksandr Davydov
Aleksandr Makarov
Aleksandr Mazur
Aleksandr Svetlichnyi
Aleksandr Zubankov
Aleksandra Marova
Aleksei Popov
Aleksey Tishevsky
Alena Kazakova
Alena Kuznetsova
Alexander Baranov
Alexander Chepurnov
Alexander D'yachenko
Alexander Efimov
Alexander Golubev
Alexander Madumarov
Alexander Motovilov
Alexander Rodin
Alexander Solovyev
Alexander Vorobyev
Alexandra Friesen
Alexey Aparin
Alexey Barabanov
Alexey Grachkov
Alexey Konovalov
Alexey Severyukhin
Alexey Shcherbakov
Alisher Aitbayev
Alisher Temirzhanov
Alla Demyanova
Anastasia Dmitrieva
Anastasia Gerasimova
Anastassiya Fedosimova
Anatolii Egorov
Anatoly Kolozhvari
Andrei Durov
Andrei Nichyparchuk
Andrei Zelenov
andrey arkhangelskiy
Andrey Bezbakh
Andrey Chugunov
Andrey Danilov
Andrey Pan
Aniruddha Dey
Anna Andreeva
Anna Klimochkina
Anna Kulikovskaya
Anna Mikhailova
Anton Baldin
Anton Bazhin
Anwar Ibrahim
Arkadiy Taranenko
Arseniy Shabanov
Artem Amirkhanov
Artem Korobitsin
Asghar Aryanfar
ASHUTOSH KAUSHIK
Avinash Agarwal
Azizbek Tulkinov
Bakhodir Kayumov
Bakhtiyar Sadykov
Bakytzhan Urazbekov
Bulat Khamidullin
Bảo Ngọc Nguyễn
Cesar Ceballos Sanchez
Daniil Ivanov
Daria Larionova
Daria Prokhorova
Dastan Ibadullayev
Dauren Aznabayev
Denis Khliustin
Dildora Rasulova
Dilshod Alimov
Dim Idrisov
Dimitar Grozdanov
Dinara Valiolda
Dmitriy Semenov
Dmitry Averyanov
Dmitry Finogeev
Dmitry Rodkin
Dmitry Sosnov
Eduard Kozulin
Egor Alpatov
Egor Bannikov
Egor Zemlin
Ekaterina Klevtsova
Ekaterina Vasyagina
Elena Kurakina
Elena Yuzhakova
Elena Zemlyanaya
Elijah Zaripov
Elina Baldina
Elmurod Yusupov
Erdemchimeg Batchuluun
Ergash Tursunov
Erkinjon Ikromkhonov
Evgenii Mardyban
Evgeniy Unzhakov
Evgeny Balbutsev
Evgeny Solodov
Farrukh Otakhonov
Fazilat Rasulova
Fedor Guber
Gennady Fedotovich
Georgi Shpenkov
Grigory Feofilov
Gulnaz Ussabayeva
Gurjav Ganbold
Ibragim Alikhanov
Igor Alekseev
Igor Izosimov
Igor Smirnov
Igor Vorobev
Ilia Drachnev
Inna Serenkova
Irfan Haider
Irina Aref'eva
Irina Lomskaya
Irina Mazur
Irina Molodtsova
Irina Son
IVAN BORZOV
Ivan Goncharenko
Ivan Mitropolsky
Jana Baraka
Janseitov Daniyar
Ji-Hoon Ha
Kakhramon Tursunmakhatov
Karima Nomozova
Kirill Slizhevskii
Konstantin Beloborodov
Ksenia Alishina
leonid dzhilavyan
Leonid Skripnikov
Loic Katarebe
Lyudmila Andronenko
Mahendra Goray
Makhmudjon Nadirbekov
Manoj Sharma
Marianna Kulkova
Marimuthu Natarajan
Marina Gustova
Marina Pokidova
Mark Povolotskiy
Marzieh Shekari Tousi
Maxim Dovbnenko
Maxim Trushin
Mehdi Nasri Nasrabadi
Mikhail Demichev
Mikhail Gorelik
Mikhail Mamaev
Mikhail Naumenko
Mikhail Onegin
Mikhail Shitov
Mikhail Sukhanov
Minaya Allahverdiyeva
Mingming Zhang
Mishel Khirk
Nadezhda Ladygina
Nadezhda Nikolaeva
Narmin Nasibova
Nazar Burmasov
Nelli Pukhaeva
Nijat Mirzayev
Nikita Kalugin
Nikita Lashmanov
Nikita Moiseev
Nikita Tsegelnik
Nikodim Makarov
Nikolay Arsenyev
Nikolay Gorbunov
Nikolay Karpushkin
Ntombizonke Kheswa
Oleg Bogdanov
Oleg Golosov
Oleg Karavichev
Oleg Rogachevsky
Oleg Selyugin
Oleg Shcherbakov
Oleg Zherebtsov
Olga Bespalova
Olga Piskounova
Olga Rezanova
Olga Shaposhnikova
Olga Sidorova
Omar Abdelsamad
Omar EL BOUNAGUI
Pavel Iaresko
Pavel Kostryukov
Pavel Kudan
Pavel Molkanov
Pavel Prusachenko
Pavel Sharov
Pazlitdin Usmanov
Petr Parfenov
Petr Vishnevskiy
Polina Aleksina
POLINA CHUZHAKOVA
Polina Ivanova
Polina Kutsalo
Rasuljon Kattabekov
Roberto Linares
Roman Sagaidak
Roman Sharypov
Roman Zhokhov
Rostislav Jolos
Sanila Sathyan
Sargylana Mamaeva
Satimboy Polvonov
SATYAM GANGWAR
SAYORA IBRAIMOVA
Sayrambay Igamov
Semyon Mikheev
Semyon Raidun
Sergei Antsupov
Sergei Lashaev
Sergei Stukalov
Sergei Tolmachev
Sergej Avdeyev
Sergey Akulinichev
Sergey Chashin
Sergey Evseev
Sergey Karaevsky
Sergey Korotkov
Sergey Prosnyak
Sergey Taskaev
Serguei Manaenkov
Shakir Zeynalov
Sheremetev Aleksei
Shubham Sharma
Shukhrat Kalandarov
Sobir Turakulov
Stanislav Artamonov
Stanislav Kadmensky
Stanislav Potashev
Stepan Shimanskiy
Sudhir Pandurang Rode
Sultan Musin
Svetalana Kachanovskaya
Svetlana Samarina
Svetlana Simak
Talgat Issatayev
Tamara Korbut
TAPUWA SITHOLE
Tatiana Karavicheva
Temirlan Khussainov
Timur Kulevoy
Trang LE
Tulkun Nasirov
Vadim Babkin
Vadim Kolesnikov
Vadim Volkov
Valeri Lebedev
Valeria Doronina
Valerii Troshin
Valeriy Stepanov
Valeriya Tsygankova
Van Hai Cao
Varvara Minasyan
Vasily Kulikov
Viacheslav Samarin
Viacheslav Vedeneev
Victor Kim
Victor Tarasov
Viktor Riabov
Vladik Yamurzin
Vladimir Bocharnikov
Vladimir Bondarenko
Vladimir Bytev
Vladimir Koltsov
Vladimir Kondratyev
Vladimir Ladygin
Vladimir Maslov
Vladimir Melezhik
Vladimir Stegajlov
Vladimir Uzhinsky
Vladislav Kuskov
Vyacheslav Saburov
Wanli Lv
Yana Otvodenko
Yanzhao Wang
Yifei Niu
Yonghong Wang
Yulia Parfenova
Yuliya Zaripova
Yuri Gurov
Yuri Murin
Yuri Sobolev
Yuriy Uzikov
Yury Ivanov
Yury Kudenko
Yury Pyatkov
Yury Tchuvil'sky
Yury Tsyganov
Zhanna Lebedeva
Zoya Goryainova
Zurab Silagadze
Абдулмажид Аламури
Азамат Темербаев
Айкен Нұрпейсов
Александр Андреев
Александр Власников
Александр Дербин
Александр Долгополов
Александр Каспаров
Александр Кузнецов
Александр Махнёв
Александр Пашков
Александр Разумов
Александр Степанов
Александр Стрижак
Александр Цыганов
Александр Черницкий
Александр Черняев
Александра Тягельская
Алексей Абрамов
Алексей Дзюба
Алексей Канцырев
Алексей Новоселов
Алексей Соловьев
Алексей Фомин
Алексей Шахов
Алина Васильева
Алина Лагутина
Алина Максимова
Алиса Аверкина
Алиса Донец
Алиса Цымбал
Алмаз Фазлиахметов
Анастасия Арутюнова
Анастасия Денисенко
Анастасия Кострыгина
Анастасия Чуйкина
Анатолий Серебров
Ангелина-Наталия Вуколова
Андрей Зайцев
Андрей Ларионов
Андрей Писклюков
Андрей Пучков
Андрей Шамов
Андрей Шуваев
Анна Безбах
Анна Виноградская
Анна Петровская
Анна Унжакова
Антон Ануфриев
Антон Духвалов
Антон Кузьменков
Антон Растимешин
Антон Рождественский
Антон Халяпин
Аркадий Терехин
Арсений Захаров
Арслан Луканов
Артур Манько
Артём Быстряков
Архангельская Ирина
Богдан Фадеенко
Борис Чернышев
Вадим Исаков
Вадим Монахов
Валентин Нестеренко
Валентина Муратова
Валерий Гаганов
Валерий Кондратьев
Валерий Синев
Валерий Темирбулатов
Валерия Вигер
Василий Горохов
Василий Мочалов
Виктор Анатольевич Матвеев
Виктор Вахтель
Виктор Зайвый
Виктор Лебедев
Виктор Целяев
Виктор Чуриков
Виктория Ипатова
Виталий Градусов
Виталий Лямкин
Виталий Петров
Владимир Варламов
Владимир Вечернин
Владимир Воронин
Владимир Жеребчевский
Владимир Коваленко
Владимир Руднев
Владислав Ларионов
Владислав Фильберт
Вячеслав Белов
Вячеслав Дьячков
Вячеслав Мицук
Вячеслав Тимошин
Галина Пикулина
Геннадий Чулухадзе
Григорий Мерзликин
Дамиан Комар
Данила Мягков
Даниэль Байрамов
Дарья Комарова
Дастан Абдихамитов
Денис Иванов
Денис Шалапинин
Денис Юсюк
Джамшитдин Талибджанов
Дмитрий Дементьев
Дмитрий Иванищев
Дмитрий Илюшкин
Дмитрий Каманин
Дмитрий Любашевский
Дмитрий Пересунько
Дмитрий Рассадов
Дмитрий Философов
Евгений Андронов
Евгений Дорошкевич
Евгений Пермяков
Евгений Юшкин
Егор Филин
Екатерина Кенф
Екатерина Кормазева
Екатерина Парменова
Екатерина Плотникова
Екатерина Хабарова
Екатерина Цапулина
Елена Колганова
Елизавета Рудакова
Жанна Лютова
Иван Бредихин
Иван Вершинин
Иван Карпов
Иван Яковлев
Игорь Коляри
Илона Коваль
Илья Болдов
Илья Гусев
Илья Лебедев
Илья Попов
Илья Чупраков
Ирина Воропаева
Ирина Горохова
Ирина Жаворонкова
Ирина Зарубина
Ирина Хоменко
Кирилл Басиров
Кирилл Галактионов
Кирилл Ковальчук
Константин Груздов
Константин Ершов
Константин Размыслов
Ксения Бутко
Ксения Молоторенко
Ксения Шмойлова
Лариса Титова
Леонид Генералов
Леонид Григоренко
Лидия Галанина
Людмила Варламова
Максим Громов
Максим Мосунов
Марина Бузоверя
Марина Донец
Марина Желтоножская
Мария Ефименко
Мария Мардыбан
Мария Маркова
Марк Терновой
Матвей Мишин
Матвей Панкратов
Михаил Буряков
Михаил Владимиров
Михаил Егоров
Михаил Жаров
Михаил Кирсанов
Михаил Косарев
Михаил Косов
Михаил Малышев
Михаил Мордовской
Михаил Сиомаш
Михаил Федорович Кудояров
Михаил Харинов
Михаил Ходаков
Михаил Шитенков
Михаил Явор
Мохсун Ализаде
Надежда Фурсова
Наргиза Темербулатова
Наталья Зеленская
Нелли Ниязова
Никита Буданов
Никита Ольхович
Никита Чалый
Николай Мальцев
Ноев Иван
Олег Белов
Олег Миклухо
Олеся Порядина
Ольга Рубцова
Ольга Чепурнова
Павел Альжев
Павел Дегтяренко
Павел Зарубин
Павел Кашкаров
Полина Давыдова
Пётр Кравцов
Раиса Көшербаева
Рахматулла Бекмирзаев
Ренат Ибрагимов
Ретивов Василий
Родион Рафиков
Роман Егоров
Роман Тихонов
Рудольф Самойлов
Светлана Белокурова
Светлана Селянкина
Семен Юрченко
Сергей Афонин
Сергей Золотов
Сергей Калинин
Сергей Камерджиев
Сергей Муравьев-Смирнов
Сергей Торилов
Сергей Юрьев
Сергей Яковлев
Сирануш Герасимова
Софья Кобелева
Софья Корнева
Софья Таова
Степан Адоньев
Татьяна Ивашкова
Татьяна Михайлова
Татьяна Третьякова
Татьяна Шашкина
Юлия Береснева
Юлия Щербина
Юрий Красников
Юрий Лютостанский
Юрий Письмак
Юрий Попов
Юрий Хохлов
Юрий Шестаков
Яна Зубрицкая
Яна Кизилова
-
-
09:00
Регистрация участников Фойе актового зала (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Фойе актового зала
Санкт-Петербургский Государственный Университет
-
0. Plenary Актовый Зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Актовый Зал
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Plenary
Convener: Владимир Жеребчевский (СПбГУ)-
1
Торжественное открытие конференции
-
2
Nuclear physics at Saint-Petersburg state university: from fundamental research to nuclear medicine applications
In modern nuclear physics there is growing interest in nuclear reactions at low interaction energies, particularly in studying the mechanisms of medium-mass nuclei formation and decay. This interest came from both fundamental research questions and the significant role these reactions play in nuclear physics, nuclear astrophysics, and the industrial production of radionuclides. Despite the extensive experimental data available today, spanning a wide range of energies and interacting nuclei, gaps remain in nuclear data, particularly concerning the excitation functions of nuclear reactions. This is especially take place for reactions involving projectile particles with energies exceeding 20 MeV in the entrance channel and those producing one or more neutrons in the exit channel. Given the significant interest in such reactions (particularly of (p,n)-type) for producing isotopes used in nuclear medicine [1], the accurate estimation of the corresponding radionuclide yields is essential. In diagnostic procedures these radionuclides are used for both planar imaging and single-photon emission computed tomography (SPECT) with gamma cameras. Pharmaceuticals labeled with positron-emitting radionuclides are used for positron emission tomography (PET). Imaging in nuclear medicine gives visualization of anatomical, functional, and metabolic processes within the human body. An equally important application is the targeted delivery of radiopharmaceuticals to cancer cells for non-surgical tumor treatment. The integration of diagnostic imaging and radionuclide therapy in theranostics (therapy + diagnostics) offers exceptional potential for early, effective diagnosis and treatment of localized tumors and metastatic cancers while minimizing side effects.
This overview presents investigations of medium-mass nuclear reactions along with new technologies for nuclear medicine isotope production developed at Saint-Petersburg State University. The experimental setups for studying beam and detector characteristics are described. These detectors and sensors are being developed for novel tracking systems to investigate superdense nuclear matter in experiments at the NICA accelerator-storage complex. In applied physics, these detectors are implemented in PET scanners and Proton Computer Tomography (diagnostic tool for hadron therapy methods) complexes.
The reported study was supported by the Russian Science Foundation, project no. № 23-12-00042, https://rscf.ru/en/project/23-12-00042/
1. Zherebchevsky V.I., Alekseev I.E., Maltsev N.A. et al., Modern Technologies for Producing Radionuclides for Nuclear Medicine, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., vol. 87, iss. 8, 2023, p. 1207.Speaker: Vladimir Zherebchevsky (Saint-Petersburg State University) -
3
Международный центр нейтронных исследований на базе реактора ПИК
Будет представлен текущий статус и планы по созданию Международного центра нейтронных исследований на основе исследовательского реактора ПИК (НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ, Гатчина), который станет самым мощным источником нейтронов для работы на выведенных пучках,
Реактор ПИК (пучковый исследовательский корпусной) представляет собой источник нейтронов с рекордными параметрами, призванный стать флагманом нейтронных исследований в России. Он представляет собой водо-водяной корпусной реактор, где легкая вода (Н2О) используется как теплоноситель, а тяжелая вода (D2О) как отражатель и замедлитель нейтронов. Плотность потока тепловых нейтронов в отражателе до 1,2·10^15н/см2с.
Для вывода нейтронного излучения из отражателя реактора ПИК, а также облучения образцов, реактор ПИК снабжен значительным числом экспериментальных каналов.
В настоящее время реактор ПИК выведен на энергетический режим работы, в марте 2022г. достигнута тепловая мощность 7 МВт. Введены в эксплуатацию первые 5 станций нейтронного рассеяния, проведены первые эксперименты.
С 2020 г реализуется полномасштабная программа создания приборного парка для проведения экспериментальных исследований на выведенных пучках нейтронов. В конце 2024г изготовлены и поставлены 11 станций первой очереди. Окончание программы и ввод в эксплуатацию 20 станций различного назначения, а также источников нейтронов различного спектрального состава ожидается в ближайшие два года.Speaker: Владимир Воронин (Санкт-Петербургский государственный университет) -
4
60 лет Объединенному институту энергетических и ядерных исследований-Сосны – научные исследования и перспективы развития
Государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» Национальной академии наук Беларуси является правопреемником Института ядерной энергетики АН БССР, созданного 22 июня 1965 года. В институте была создана экспериментальная база, позволяющая проводить исследования по физике и безопасности ядерных реакторов. В результате многолетней работы и в кооперации с рядом предприятий ядерного комплекса СССР была создана и введена в эксплуатацию в 1985 году передвижная атомная электростанция «Памир-630Д» с реактором тепловой мощностью 5 МВт (электрическая мощность станции 630 кВт) с диссоциирующим теплоносителем и рабочим телом нитрин. Станция предназначалась для использования в качестве автономного источника электрической энергии передвижных и стационарных объектов, находящихся в труднодоступных районах СССР. После аварии на ЧАЭС, установка была выведена из эксплуатации и захоронена в 1990 году.
В настоящее время основные направления научных исследований: исследования и разработки в области атомной энергетики, научного сопровождения строительства АЭС в Республике Беларусь; исследования и разработки в области ядерных и радиационных технологий в интересах различных отраслей народного хозяйства; обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; фундаментальные и прикладные исследования в области ядерной физики, физики элементарных частиц, физики высоких энергий. Основу экспериментальной базы составляют ядерные и радиационные установки.
В ОИЭЯИ — «Сосны» эксплуатируют три исследовательские ядерные установки – критические стенды «Кристалл» и «Гиацинт» и подкритический стенд «Ялина». На реакторах физической мощности проводят экспериментальные исследования по физике и ядерной безопасности реакторов перспективных ядерных установок. На подкритическом стенде «Ялина» выполняют экспериментальные исследования нейтронно-физических характеристик подкритических систем, управляемых внешним источником. На базе радиационно-технологического комплекса, в который входят универсальная гамма-установка и ускоритель электронов, выполняются научно-исследовательские, экспериментальные и опытно-технологические работы в области радиационной физики, радиационной химии, радиационной биологии и материаловедения.Speaker: Тамара Николаевна Корбут (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны) -
5
Development and prospects of radiation medical physics in Russia
Radiation medical physics is a key interdisciplinary field at the intersection of nuclear physics, medicine, and engineering. In Russia, the development of radiation medical physics is closely linked to the advancement of nuclear technologies and the growing demand for high-precision methods in diagnostics and radiation therapy. Over the past decades, significant progress has been made in radiation therapy, medical imaging, and the production of medical radionuclides. In clinical practice, modern techniques in radiation therapy and dosimetry are rapidly evolving, aimed at improving treatment quality and dose delivery accuracy through the use of advanced medical accelerators and imaging systems. Furthermore, there is a steady increase in scientific research focused on improving radiotherapy technologies, optimizing treatment planning, and developing personalized approaches to cancer care.
The training of highly qualified specialists capable of operating advanced equipment and conducting scientific research in the field of medical physics is a crucial prerequisite for the continued growth of the discipline. Specialized academic programs and professional development courses have been successfully integrated into the educational system, ensuring the preparation of experts for both healthcare and industry. Since 1998, Moscow State University has trained over 230 medical physicists through undergraduate, graduate, and specialist programs, and more than 200 professionals have completed continuing education courses at MSU. A significant milestone was the launch of the first official accreditation of medical physicists in Russia, implemented by the Accreditation Center of Moscow State University, based on accumulated expertise in science and education. Over the past five years, nine PhD and three Doctor of Science theses have been successfully defended in the field.
Despite ongoing efforts, the demand for qualified medical physicists in Russia remains high. The future of radiation medical physics in the country is closely tied to the continued improvement of radiotherapy technologies, the advancement of medical imaging methods, and the expansion of radionuclide production. Close collaboration between academic institutions, research centers, and healthcare organizations will play a critical role in driving further progress.
Speaker: Prof. Aleksandr Chernyaev (Lomonosov Moscow State University) -
6
Возможности стереотаксического облучения на КПТ "Прометеус"
Протонная терапия является одним из передовых методов лучевой терапии. В последнее десятилетие наблюдается бурный рост появления центров протонной терапии в мире. В России действует 3 центра протонной терапии. Центр протонной терапии «Прометеус» расположен в г. Обнинске и является полностью российской разработкой. На сегодняшнее время в центре было пролечено более 1000 пациентов с нозологиями, локализованными в области головы и шеи. Экспозиция малых мишеней, менее 3 см3, на данный момент на комплексе не реализуется. Облучение таких мишеней требует реализации ряда физико-технических мероприятий.
В данном исследовании проводилось научно-технические изыскания для проведения стереотаксического облучения малых полей у домашних животных. Для реализации поставленной задачи потребовалось:
1. Изменить точку облучения и приблизить её максимально близко к выпускному раструбу канала выпуска ускорительного комплекса [1];
2. Изменить константы в системе планирования на соответствующие в положении планируемой экспозиции;
3. Провести корректировку снимков цифровой реконструкции, для верификации положения;
4. Изготовить стенд для проведения экспозиции;
5. Провести физико-дозиметрические исследования и валидацию результатов расчета с новыми константами.
Данные задачи были реализованы и на конец 2025 г. было пролечено более 20 животных с различными нозологиями.
Данная работа является демонстрацией возможности по реализации стереотаксического облучения малых мишеней на комплексе протонной терапии «Прометеус»- Мерзликин Г. В., Скотникова Н. А., Адарова А. И. и др. Верификация угловых характеристик узкого расходящегося пучка протонов на КПТ “Прометеус” // Краткие сообщения по физике ФИАН. – 2024. – № 11. – С. 32–43.
Speaker: Вячеслав Сабуров (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, Обнинск, Россия) -
7
Сцинтилляторы и сцинтилляционные детекторы для регистрации ионизирующих излучений
-
Speaker: Вячеслав Сергеевич Тимошин (Азимут Фотоникс) -
8
Функциональные возможности российских диджитайзеров на примере реализации 2D-нейтронного TOF спектрометра
Современные эксперименты в области ядерной физики требуют высокоточной регистрации и обработки сигналов с детекторов. Диджитайзеры играют ключевую роль в создании автономных измерительных комплексов, обеспечивая необходимую точность и надёжность. Сложность экспериментов приводит к появлению всё новых требований к цифровой электронике не только по скорости оцифровки, но и по всё усложняющейся обработке данных.
Одной из таких задач является 2D-нейтронная времяпролетная спектрометрия, для реализации которой требуется оцифровывать и корреляционно обрабатывать в режиме времени на ПЛИС более 5 каналов с частотой событий более 105 имп/сек по каждому каналу. Такой функционал был реализован на базе диджитайзера D125-16, что позволило достичь пространственного разрешения в 2 мм с точностью определения меток времени события на уровне 1 нс.
Отдельная часть доклада будет уделена линейке моделей диджитайзеров от ООО «Диджитайзер», их техническим характеристикам, алгоритмам потоковой обработки данных, реализуемым на уровне прибора, а также, и их применению в экспериментах, включая спектроскопию, измерения методом времени пролёта (TOF режим), регистрацию парных событий.Speaker: Alexander Pashkov (ООО "Диджитайзер") -
9
Комплексные системы (решения) для физических экспериментов
Подготовка современного ядерно-физического эксперимента и создание современной ядернофизической установки невозможно без широкого спектра приборов, комлектующих и специальных материалов напраленных на реализацию того или иного экспериментального метода. Современная система регистрации любых ионизирующих излучений состоит из детектора, чувствительного фотоприемника (для сцинтрилляционного метода), специализированных АЦП- спектрометров и компьютерных средств для обработки и хранения данных. Компания ТФТ предлагает услуги по комплектованию ядерно-физических экспериментов или установок под ключ по техническому заданию заказчика с использованием отечественных и импортных приборов, материалов и комплектующих.
Speaker: Алексей Абрамов (ТФТ) -
10
Системы диагностики пучкаSpeaker: Михаил Дмитриевич Ходаков (ГК "Научное Оборудование")
-
1
-
14:00
Общее фото
-
14:20
Обед
-
0. Plenary Актовый Зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Актовый Зал
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Plenary
Convener: Владимир Воронин (Санкт-Петербургский государственный университет)-
11
Performance and operational experience of ALICE FIT in LHC Run3
The ALICE experiment underwent significant upgrades during the LHC Long Shutdown 2 (2019–2021), including the installation the new Fast Interaction Trigger (FIT) system. FIT comprises three detectors FT0, FV0 and FDD, which use Cherenkov and scintillation effects to detect charged particles originating from proton-proton (pp) and heavy-ion collisions [1]. FIT uses dedicated front-end electronics to measure the time and charge of pulses at bunch crossing interval of 25 ns and pp (Pb–Pb) interaction rates of up to 1 MHz (50 kHz).
In the online regime, the FIT detector provides an initial vertex position, fast triggers, beam luminosity, and background monitoring. The offline FIT data are important for event selection, determining and measuring multiplicity, centrality, collision time, event plane, and veto for diffractive and ultra-peripheral heavy-ion collisions.
This talk will introduce the FIT’s operational experience and performance, as well as its achievements and expected physics performance improvements.
References
1. W. H. Trzaska et al., Nucl. Instrum. Methods A 958, 162116 (2020)Speaker: Tatiana Karavicheva (Institute for nuclear reseach RAS, Affiliated with an international laboratory covered by a cooperation agreement with CERN) -
12
Первые результаты исследования спиновых эффектов на ядерных мишенях в эксперименте СПАСЧАРМ
На ускорительном комплексе У-70 НИЦ «Курчатовского института» - ИФВЭ получены первые результаты в эксперименте СПАСЧАРМ [1]. Основной задачей эксперимента является систематическое изучение спиновых эффектов во взаимодействии адронов, таких как односпиновые и двухспиновые эффекты с использованием поляризованной мишени и/или поляризованного пучка.
Одним из основных направлений исследований является также изучение таких физических наблюдаемых, как поляризация гиперонов и выстроенность векторных мезонов на ядерных мишенях. В экспериментальных сеансах на пучке отрицательных мезонов с импульсом около 27 ГэВ/c набраны первые экспериментальные данные на шести различных ядрах от углерода до свинца по поляризации $\Lambda$ и $\bar{\Lambda}$-гиперонов и спиновой выстроенности $\rho^0$(770)- и $K^{*-}$(892)-мезонов. Получены первые результаты, суммированные для всех ядер.
Полученные в эксперименте СПАСЧАРМ результаты измерения поляризации в реакциях $\pi^- A\rightarrow \Lambda X$ и $K^- A\rightarrow \Lambda X$ являются наиболее точными в мире. Впервые наблюдена поперечная поляризация ($P_N$) $\Lambda$-гиперонов, образованных при взаимодействии $K^-$-мезонов с ядрами.- Концептуальный проект эксперимента СПАСЧАРМ, Сотрудничество СПАСЧАРМ, ЭЧАЯ, 2023, том 54, выпуск 1, стр. 6
Speaker: Василий Мочалов (НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, Протвино) -
13
Some selected highlights of relativistic heavy-ion collisions experiment
In this report I will present an overview of some selected results obtained in recent experimental studies of strongly-interacting matter at extreme conditions, as formed in ultra-relativistic nucleus-nucleus collisions at modern facilities. This will include the overview of fluctuations and correlations and flow studies in Pb+Pb, p+Pb and p+p collisions by ALICE and CMS at the LHC, role of strangess and charm in heavy-ion collisions, search of the critical end-point (CEP) by NA61/SHINE at the SPS. Production of light (anti)nuclei in high-energy pp, p–A, and A–A collisions is another topic of interest to be touched in comparison with hadronization models.
Perspectives for analysis of cumulants of conserved quantities in HI collisions at the MPD at NICA will be also discussed briefly. Finally, some recent results by Saint-Petersburg State University developments for the data analysis are supposed to be also presented -- the multipomeron exchange model, the long-range correlations and application of strongly intensive observables, the modified Glauber approach to the estimates of nucleon-nucleon collisions number, new observation of the independence of ratios of transverse energies of φ-mesons to other strange hadrons produced at midrapidity in very central A+A collisions in a wide range of $\sqrt{s_{\text{NN}}}$ from 30 GeV to 2760 GeV.The author acknowledges Saint-Petersburg State University for a research project 103821868
Speaker: Grigory Feofilov (Saint-Petersburg State University)
-
11
-
17:10
кофе-брейк
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
70(2013)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Александр Власников (Санкт-Петербургский государственный университет)-
14
Статус эксперимента МОНУМЕНТ: текущие результаты и дальнейшие перспективы
Целью эксперимента MONUMENT является получение экспериментальных данных для вычисления параметров мюонного захвата на дочерних (по отношению к кандидатам на безнейтринный 2 $\beta ${}-распад) ядрах. Результаты измерении необходимы для проверки точности теоретических расчетов ядерных матричных элементов. В период с 2021 по 2023 было проведено несколько измерительных кампаний на мезонной фабрике Института Пауля Шеррера в Швейцарии (PSI) на пучке отрицательных мюонов $\pi $ Е1: с моментом пучка ~ 28 - 33 MeV/с и интенсивностью ~ (2 - 4) x $10^{4}$ $\mu^-$/s.
В докладе будет представлен анализ полученных данных в 2021 - 2023 годах во время измерения мюонного захвата на изотопически обогащенных (более 95%) мишенях $^{136}$Ва, $^{48}$Ti и $^{100}$Мо. Экспериментальная установка представляет собой массив германиевых детекторов, которые регистрируют излучение, образовавшееся в результате взаимодействия отрицательных мюонов мишенью. Отбор полезных событий проводился с помощью системы сцинтилляционных счетчиков, окружающих мишень, включенных на совпадения с германиевыми детекторами. Техническое описание эксперимента подробно приводится в [1].- Araujo, G.R., Bajpai, D., Baudis, L. et al. Eur. Phys. J. C 84, 1188 (2024). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-13470-6
Speaker: Вячеслав Белов (ОИЯИ) -
15
Features of data analysis in the experiments on measuring the cross-sections of γ-ray emission from (n, xγ) reactions induced by 14.1 MeV neutrons
The TANGRA (TAgged Neutrons and Gamma-RAys) project [1, 2] is aimed at studying the interaction of fast 14.1 MeV neutrons with various nuclei for both fundamental and applied purposes. One of the recent modifications [3] of the setup for measuring the differential and total cross-sections of γ-ray emission was made in order to reduce the measurement time and increase counts statistics. The close geometry of the detectors leads to the appearance of a number of systematic effects associated with multiple scattering and absorption of incident and secondary particles in the sample and the materials of the experimental setup, as well as with the sample beam coverage. The contributions of these effects are interrelated and cannot be considered separately from each other, as well as separately from the detectors efficiency. In this presentation we will consider an approach that allows us to take into account all these effects together. The analysis procedure will be demonstrated using the results for the cross-sections of the γ-ray production in the (n, xγ) reactions induced by 14.1 MeV neutrons in the TiO2 sample. The present study was supported by the Russian Science Foundation (grant no. 23-12-00239).
[1] I. Ruskov, Yu. Kopatch, V. Bystritsky, V. Skoy, V. Shvetsov, F.-J. Hambsch, S. Oberstedt, R. Capote Noy, D. Grozdanov, TANGRA collaboration, Tangra – an experimental setup for basic and applied nuclear research by means of 14.1 MeV neutrons, ND2016, EPJ Web Conf. 146 (2017) 03024, https://doi.org/10.1051/epjconf/201714603024.
[2] I. Ruskov, Yu. Kopach, V. Bystritsky, V. Skoy, D. Grozdanov, N. Fedorov, T. Tretyakova, F. Aliev, C. Hramco, V. Slepnev, N. Zamyatin, A. Gandhi, D. Wang, A. Kumar, E. Zubarev, E. Bogolubov, Y. Barmakov, TANGRA collaboration, TANGRA multidetector systems for investigation of neutron-nuclear reactions at the JINR Frank Laboratory of Neutron Physics, EPJ Web Conf. 256 (2021) 00014, https://doi.org/10.1051/epjconf/202125600014.
[3] А. В. Андреев, Н. А. Федоров, Д. Н. Грозданов, П. С. Прусаченко, Ю. Н. Копач, Т. Ю. Третьякова, Г. В. Пампушик, К. Храмко, А. П. Зуев, П. Г. Филончик, П. И. Харламов, И. Н. Русков, В. Р. Ской и коллаборация TANGRA, Изучение углового распределения и сечения излучения гамма-квантов в ядрах Si и O в реакциях с быстрыми нейтронами, Известия РАН. Серия физическая, принята к публикации.Speaker: Pavel Prusachenko (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research) -
16
Measurements of the gamma-ray emission cross sections and angular distributions from (n, xγ) reactions with 14.1 MeV neutrons
The study of inelastic scattering of fast neutrons by atomic nuclei is of great importance for both fundamental and applied neutron-nuclear physics. Reactions induced by neutrons provide a unique source of information for describing the processes of strong interaction between nucleons.
Inelastic scattering processes are utilized to study the characteristics of excited states of target nuclei [1]. The practical application of the (n,n'γ) reaction necessitates the expansion and refinement of experimental data on this process. Research on the inelastic scattering of fast neutrons has recently become more active, driven by new prospects for nuclear energy production using fast neutron reactors.
The purpose of this experiment was to refine the available data on emission cross sections and angular distributions from the inelastic scattering of 14.1 MeV neutrons by certain light nuclei. This work was conducted within the framework of the international TANGRA (TAgged Neutrons and Gamma RAys) project at the Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia.
Inelastic scattering was studied using the Tagged Neutron Method [2], in which neutrons with an energy of 14.1 MeV, produced in the d(t,a)n reaction, are “tagged” by detecting alpha particles. Gamma quanta from the (n,n'γ) reaction were recorded using a new multidetector system [3]. The experimental data are presented and discussed in comparison with previously published results.Acknowledgment
This work was conducted with financial support from the Russian Science Foundation (grant no. 23-12-00239).- W. Hauser and H. Feshbach. The Inelastic Scattering of Neutrons, Phys. Rev., 1952, vol. 87,
p. 366., https://doi.org/10.1103/PhysRev.87.366. - I.N. Ruskov, Yu.N. Kopatch, V.M. Bystritsky et al. Physics Procedia, vol. 64, 2015, pp. 163-170,
ISSN 1875-3892, https://doi.org/10.1016/j.phpro.2015.04.022. - Yu.N. Kopatch, D.N. Grozdanov, N.A. Fedorov et al. Moscow University Physics Bulletin, vol. 79,
No 3, pp. 308-317, 2024. https://istina.msu.ru/publications/article/683109723/.
Speaker: Dimitar Grozdanov (Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna, Russia.) - W. Hauser and H. Feshbach. The Inelastic Scattering of Neutrons, Phys. Rev., 1952, vol. 87,
-
17
Расчёт угловых распределений гамма-квантов на ядре 48 Ti в реакциях с быстрыми нейтронами
В рамках международного проекта «TANGRA»[1] (TAgged Neutrons and Gamma RAys) в Лаборатории Нейтронной Физики им. И.М.Франка (ОИЯИ) ведётся систематическое исследование рассеяния меченых нейтронов на атомных ядрах [2-4]. Одна из целей проекта «TANGRA» - создание и развитие базы данных по сечениям реакций взаимодействия нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами различных элементов и характеристическим γ-линиям для расширения применимости метода меченых нейтронов для элементного анализа различных материалов и веществ. На сегодняшний день подборки существующих в мире данных по угловым распределениям излучения γ-квантов не полны и для многих ядер противоречивы. С целью их анализа, а также изучения наших экспериментальных данных была предпринята попытка теоретического описания процесса излучения γ-квантов в реакциях с быстрыми нейтронами.
Угловые распределения γ-квантов, испускаемых в процессе рассеяния нейтронов, могут быть получены с использованием формализма теории угловых корреляций [5]. При этом также требуется учесть механизм заселения уровней ядра при неупругом рассеянии нейтронов. Это можно сделать используя формализм S-матрицы рассеяния, элементы которой в данной работе были рассчитаны с применением программного кода ECIS [6],позволяющего вычислить неупругое дифференциальное сечение рассеяния нейтронов и элементы S-матрицы рассеяния на ядрах с помощью оптической модели методами связанных каналов и DWBA.
Данная работа посвящена расчётам угловых распределений гамма-квантов в реакциях (n,n’γ) с быстрыми нейтронами для ядра 48 Ti.
- TANGRA Project. Frank Laboratory of Neutron Physics:
https://flnp.jinr.int/en-us/main/facilities/tangra-project-en. - И. Д. Дашков и др., Изв. РАН. Сер. физ. 86(8), c. 1081 (2022);
I.D. Dashkov et al.,Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 86(8), p. 893 (2022). - D. A. Grozdanov et. al., Chinese Physics C. 48, 034003 (2024).
- Ю. Н. Копач и др., Вестник Моск. Ун-та. 79(3), 240201 (2024);
Yu. N. Kopatch et. al. // Mosc. Univ. Phys. Bull, 79(3), p. 308-317 (2024). - L. C. Biedenharn, M. E. Rose, Reviews of modern physics. 25(3), p.729-777
(1953) - J.Raynal, Notes on ECIS94, Note CEA-N-2772 (1972)
Speaker: Alexander Andreev (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research) - TANGRA Project. Frank Laboratory of Neutron Physics:
-
14
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions 3058 (Санкт-Петербургский Университет)
3058
Санкт-Петербургский Университет
Convener: Victor Tselyaev-
18
Ternary fission of actinides induced by thermal neutrons with light particles emission
In [1-3] the virtual mechanism of ternary fission of the compound nucleus $(A, Z)$, formed by the capture of the thermal neutron by target-nucleus $(A-1, Z)$ as the two-stage process was suggested. At the first stage light particle $(A-A_{LP},Z-Z_{LP})$ with kinetic energy close to the Coulomb barrier height is emitted from the nucleus $(A, Z)$ with the forming of the virtual state of the intermediate nucleus having internal energy lower than its ground state energy and undergoing binary fission at the second stage. The yield $N_{LP}$ of the light particle and the energy distribution $W(T_{LP})$ related to one act of the binary fission are defined as [1-3]
$N_{LP}=\int W(T_{LP})dT_{LP}=\frac{\Gamma_{LP f}}{\Gamma_f^A}; W(T_{LP})=\frac{1}{2\pi}\frac{(\Gamma_{LP}^A)^{(0)}}{(Q_{LP}^A+|{B_n}|-T_{LP})^2}=\omega_{LP}\frac{\hbar c \sqrt{2T_{LP}}}{2R_{neck}\sqrt {\mu c^2}}P(T_{LP})$
where $\Gamma_{LP f}$ and $\Gamma_f^A$ are the widths of the ternary and binary fission of compound nucleus $(A, Z)$, correspondingly, $(\Gamma_{LP}^A)^{(0)}$ is the width of the virtual decay of the nucleus $(A, Z)$ with light particle emission from the deformed transition fission state corresponding to the configuration (0) of these nuclei with the neck radius $R_{neck}$ between two fission prefragments, $Q_{LP}^A$ is the heat of the decay of the nucleus $(A, Z)$ with light particle emission, $B_n$ is neutron binding energy in $(A, Z)$, $P(T_{LP})$ is light particle penetrability factor of the Coulomb barrier formed by the sum of the non-spherical nuclear and Coulomb potentials of the light particle interaction with nucleus $(A-A_{LP},Z-Z_{LP})$, $\omega_{LP}$ is the probability of light particle formation in the neck of the nucleus $(A, Z)$, $\mu$ is the reduced mass of light particle and nucleus $(A-A_{LP},Z-Z_{LP})$. Using the experimental energy distributions $W(T_{LP})$ [4 - 6], the estimations of the $R_{neck}$ [7] and taking into account that penetrability factor $P(T_{LP})\approx 1$ at the maximal energies of the emitted light particles $(T_{LP})_{max}$ the estimations of the probability of the light particle formation were obtained for the target-nuclei $^{233}U$, $^{235}U$, $^{249}Cm$, $^{251}Cf$, in fission induced by thermal neutrons.
1. S.G. Kadmensky et al. PEPAN 63, 620 (2022)
2. S.G. Kadmensky, L.V. Titova, D.E. Lyubashevsky Phys. At. Nucl. 83, 326 (2020)
3. L.V. Titova, Bulletin MSU. Ser. 3: Physics. Astronomy. № 5, 64 (2021)
4. Yu.N. Kopatch et. al. // CP798 Nuclear Fission and fission spectroscopy, p. 115 (2005)
5. S.Vermote et al. Nuclear Physics A 837, 176 (2010)
6. I. Tsekhanovich et al. Phys. Rev. C 67, 034610 (2003)
7. S.G. Kadmensky, D.E. Lyubashevsky, P.V. Kostryukov, A.A. Pisklyukov PEPAN 21, 1114 (2024)Speaker: Larisa Titova (Voronezh State University) -
19
Sequential mechanism of triple collinear nuclear fission
Triple collinear fission of a weakly excited compound fissile nucleus is analyzed on the basis of a sequential two-stage mechanism associated at the first stage with double fission of this nucleus with the formation of two fission fragments, and at the second stage with double fission of one of these fragments. In this case, the presentation of coldness of fission fragments at the first and second stages is used, when their spins and orbital moments are formed by taking into account the bending and wriggling vibrations of the corresponding fragments. In this connection in the paper for the first time the above vibrations are taken into account twice.
Speaker: Stanislav Kadmensky (Voronezh State University) -
20
Light ions accompanied break-up of the medium heavy fission isomers
In series of the photo-fission reactions, namely, $^{235, 238}$U(γ, f), $^{232}$Th(γ, f), $^{242}$Pu(γ, f) we have found that some part of the fission fragments (FFs) are presumably born in the state of the fission isomer with the yield Y ≈ $10^{-3}$ binary fission and with the lifetime $\tau_{isom}$ > 400 nsec [1, 2]. A binary break-up of such fragments was observed when they pass through a solid-state foil. The effect takes place also for the FFs from $^{252}$Cf(sf). In the proposed presentation we discuss the mode of the break-up with forming light ions in the mass range (3–20) u as one of the resultant decay products. The link of such events with known polar emission of the light charged particles is analyzed.
References
- D.V. Kamanin et al., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, V. 87, 1238 (2023).
- D.V. Kamanin et al., Journal of Physics: Conference Series, V. 2586, 012043 (2023).
Speaker: Dr Dmitry Kamanin (Joint Institute for Nuclear Research) -
21
Coming back to the problem of the true ternary fission - actual view
In the past, there were multiple attempts to find the so-called “true ternary fission” i.e. ternary fission with comparable masses of the fragments. So far, it has not been done, at least not in the frame of the traditional experimental approaches. In a series of our experiments, we have observed ternary partition of the heavy nuclei [1, 2] when one of the fragments of binary fission undergoes a break-up while passing through a solid-state foil. Among such events, there is a fraction of them with comparable masses of the resultant fragments. It should be stressed that the fragment undergoing a break-up is born in the shape isomer state [3]. In our presentation, we discuss a possible mechanism of the ternary partition leading to comparable masses of the fragments.
References
1. Yu.V. Pyatkov et al., Eur. Phys. J. A 48 (2012) 94–110.
2. D.V. Kamanin, Yu. V. Pyatkov, "Clusters in Nuclei – Vol.3" ed. by C. Beck, Lecture Notes in Physics 875, pp. 183–246 (2013).
3. Yu.V. Pyatkov et al., Physics of Atomic Nuclei, 2024, Vol. 87, Suppl. 3, pp. S418–S425.Speaker: Pyatkov Yury (FLNR)
-
18
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics 2053 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
2053
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Константин Ершов (Радиевый институт им. Хлопина)-
22
Метод оценки работоспособности оптического и электронного тракта для подсистемы BBC в детекторе SPD
Детектор спиновой физики (SPD) - это эксперимент на коллайдере NICA, предназначенный для изучения спиновой структуры протона, дейтрона и других связанных со спином явлений с использованием поляризованных пучков при энергиях в системе центра масс до 27 ГэВ и светимостью до 10^32 см^-2 с^-1. Одной из подсистем начальной фазы эксперимента SPD является Beam-Beam Counter (BBC). BBC спроектирован как высокогранулированный сцинтилляционный детектор.
Ранее был проведен цикл исследований, посвящённых выбору оптимальных материалов для прототипа. На этой основе, был разработан и протестирован 8-ми канальный прототип сектора. В настоящий момент проводится тестирование плат преобразования оптического сигнала в электрический, на основе кремниевых фотоумножителей (SiPM), и ведутся исследования различных вариаций оптического коннектора. В этой связи, разработка механизма проверки - является актуальной задачей.
В работе представлен метод проверки оптических коннекторов, основанный на засвечивании волокном бокового свечения (SGF). Данный метод является одним из вариантов проверки наиболее уязвимого места – коннектора, и может служить в качестве инструмента для быстрой проверки собранного сектора. Обсуждаются первые полученные результаты; перспективы применения в рамках прототипа кольца подсистемы BBC.
Speaker: Алексей Тишевский (ОИЯИ) -
23
Исследование однородности пластиковых сцинтилляторов прототипа детектора локальной поляриметрии Beam-Beam Counter для эксперимента SPD с помощью сканирования рентгеновским пучком
Эксперимент Spin Physics Detector (SPD) на ускорительном комплексе NICA будет изучать спиновую структуру нуклона в столкновениях пучков поляризованных протонов и дейтронов, при этом для локальной поляриметрии будет использован специализированный детектор Beam-Beam Counter (BBC), построенный на основе пластиковых сцинтилляционных пластин со считыванием сигнала через спектросмещающее оптоволокно (WLS) и кремниевый фотоумножитель (SiPM) [1]. Качественные характеристики сцинтилляционных пластин, в частности их однородность, напрямую влияют на точность и стабильность измерений [2]. Так как конструкция детектора предполагает использование около 800 каналов считывания сигнала, необходимо оптимизировать методологию установления факта пригодности изготавливаемых образцов [3].
В работе представлена усовершенствованная методика оценки однородности сцинтилляторов, основанная на точечном облучении фиксированной геометрической области пластины с помощью рентгеновской трубки AMPTEK Mini-X с серебряной мишенью и круглым коллиматором 2 мм. Для позиционирования источника использован координатный столик с разрешением не хуже 20 мкм. Регистрируемый световой отклик анализировался с применением системы CAEN FERS-5200, а полученные данные использованы для построения профиля отклика по поверхности сцинтиллятора.
Методика позволяет выявить локальные неоднородности световыхода, сравнивать образцы между собой и оценивать пригодность пластин для использования в системе локальной поляриметрии. Представлены сравнительные данные для профилей отклика с использованием более прецизионного источника питания фотоумножителя и методика сканирования, позволяющая исследовать как единичные детекторы, так и сборки сцинтилляционных пластин. Разработанный подход планируется рекомендовать к применению в процедурах приёмочного контроля и отбора сцинтилляторов для детекторов BBC в составе установки SPD.Литература
- The SPD Collaboration. Technical Design Report of the Spin Physics Detector at NICA. Natural Science Review 1, 1 - 325 (2024).
- Tishevsky A.V., Dubinin F.A., et al. The SPD Beam-Beam Counter Scintillation Detector Prototype Tests with FERS-5200 Front-End Readout System. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 723–726 (2024).
- Zakharov A.M., Dubinin F.A., et al. Material Selection of the SPD Beam-Beam Counter Scintillation Detector Prototype. Phys. Part. Nuclei 55, 1091–1098 (2024).
Speaker: А. М. Захаров (Национальный Исследовательский Ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-технический институт), Москва, Россия) -
24
Разработка и тестирование Катодно-стриповых камер (CSC) для эксперимента BM@N
BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) - первый эксперимент, работающий на ускорительном комплексе Нуклотрон/NICA в ОИЯИ [1]. Целью эксперимента BM@N
является исследование динамики реакций и изучение модификации свойств адронов в ядерной материи, рождение странных гиперонов около порога и поиск гиперядер с использованием установки BM@N во взаимодействиях выведенных пучков ионов Нуклотрона с фиксированными мишенями. В рамках проекта также ведется исследование структуры ядер на малых меж-нуклонных расстояниях на детекторе BM@N. Нуклотрон обеспечит эксперимент пучками различных частиц от протонов до ионов золота с кинетической энергией от 1 до 6 АГэВ. Максимальная кинетическая энергия ионов с отношением заряда к атомной массе 0.5 составляет 6 АГэВ. Максимальная кинетическая энергия ионов золота с Z/A~0.4 составляет 3.8 АГэВ, а максимальная кинетическая энергия для протонов составляет 13 АГэВ.
Детекторы CSС (внешний трекер) способны работать при высокой плотности частиц и расположены вне магнитного поля после анализирующего магнита с целью точной привязки к трекам, реконструированным в детекторах FSD и GEM внутри анализирующего магнита [2]. CSC используются для фильтрации ложных треков и треков с плохо восстановленными параметрами с целью поиска соответствующих совпадений во времяпролетных системах TOF400 и TOF700. Первый детектор CSC был разработан и собран в ЛФВЭ ОИЯИ в 2018 году. Первые пучковые испытания CSC были проведены в 2018 году на пучке аргона с кинетической энергией 3.2 AГэВ и пучке криптона с кинетической энергией 2.3 AГэВ [3]. В сеансе 2023 года с пучком ксенона на установке BM@N были установлены четыре камеры с размерами чувствительной области 1×1 м2 и одна камера с размерами 1,5×2 м2.Литература
- The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex. Nucl.Instrum.Meth.A 1065 (2024) 169532
- A. Galavanov et al., Performance of the BM@N GEM/CSC tracking system at the Nuclotron beam, EPJ Web Conf. 204 (2019) 07009
- S. Afanasiev et al., Production of π+ and K+ mesons in argon-nucleus interactions at 3.2 AGeV, hep-ex arXiv:2303.16243.
Speaker: Расулджон Каттабеков (ОИЯИ) -
25
Development and Performance Evaluation of ECal Modules in China for the NICA-MPD
The Electromagnetic Calorimeter (ECal), a critical sub-detector of Multi-Purpose Detector (MPD) at Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA), is designed to identify and measure electrons, photons, and neutral hadrons produced in high-energy heavy-ion collisions. Its Shashlyk-type architecture combines lead absorbers and plastic scintillators in a layered geometry to optimize measurement precision.
Chinese MPD group has developed 768 ECal modules(one-third of the whole ECal). In this report, the mass production process of ECal modules and a performance test system designed for the mass production will be discussed. The uniformity of the ECal modules achieved based on cosmic ray test will be presented, indicating the mass produced ECal modules met the design requirements and the quality control in mass production is effective. Furthermore, I would give a larger emphasis to physics feasibility studies for neutral mesons with the ECal based on Bi+Bi@9.2GeV simulated using realistic event generators.
Speaker: Ms Yonghong Wang (Shandong University)
-
22
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics Актовый зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Актовый зал
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Алексей Дзюба (Санкт-Петербургский государственный университет)-
26
Machine-learning-based particle identification
In this work, we introduce a novel method for Particle Identification (PID) within the scope of the MPD experiment at the NICA accelerator complex of Joint Institute for Nuclear Research. Identifying products of ultrarelativisitc collisions produced in the heavy-ion experiments is one of the crucial objectives of most of the physics analysis. The principal challenge for PID is to provide good identification in a wide range of the particle momentum. Typically employed PID methods rely on hand-crafted selections, which compare experimental data to theoretical predictions. We propose using Machine Learning (ML) approach the method for PID, which has a wide range of different models for classification task. This study demonstrates the use of gradient boosted decision trees (GBDT) for particle identification, focusing on six particle types in simulated Bi+Bi collisions at $\sqrt{s_{NN}}=$ 9.2 GeV. Our approach improves the PID purity and efficiency in momentum ranges, where feature overlap limits classical methods, of the selected sample for all investigated particle species.
Speaker: Artem Korobitsin (JINR) -
27
Neural network domain adaptation for addressing the generator-dependence problem in impact parameter estimation
This study addresses the challenge associated with estimating the impact parameter of heavy-ion collisions using data from microchannel plate detectors for future NICA experiments [1-3]. The primary issue arises from the dependence of algorithms quality on the choice of event generator model, specifically QGSM [4], EPOS [5], and PHQMD [6], which were investigated in our work.
To resolve this model-induced bias, we evaluated multiple data analysis methodologies. Initially we employed classical techniques, such as dimensionality reduction via principal component analysis (PCA) and naive training on mixed datasets. Then we focused on advanced domain adaptation strategies. The most robust performance was achieved using a deep reconstruction neural network (DRNN) [7]. Algorithms trained via this approach demonstrated accuracy approaching that of models trained on single-generator datasets, while significantly outperforming naive mixed-data training.
The results highlight that the domain adaptation can be utilized in mitigating generator-specific biases, offering a step toward generalized algorithms for impact parameter estimation. These findings are prominent for advancing the analysis of event generator properties and the development of generalized algorithms better suited for future experimental data.
[1] A.A.Baldin, G.A. Feofilov, P. Har'yuzov, and F.F. Valiev, // Nucl. Instrum. Meth.A 2020, V.958, P.162154. https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.04.108
[2] https://nica.jinr.ru/
[3] K.A. Galaktionov, V.A. Roudnev, and F.F. Valiev, Moscow Univ. Phys. Bull. 78 (2023) Suppl 1, S52-S58
[4] Amelin N. S., Gudima K. K., Toneev V. D., Sov. J. Nucl. Phys. 1990. V. 51(6), P. 1730-1743
[5] Werner, Klaus and Liu, Fu-Ming and Pierog, Physical Review C 2006, V. 74
[6] Aichelin, J. and Bratkovskaya, E. and Le Fèvre, A. and Kireyeu, V. and Kolesnikov, V. and Leifels, Y. and Voronyuk, V. and Coci, G., Physical Review C 2020, V. 101
[7] Wang, M. and Deng, W. Neurocomputing, 2018, V. 312, P 135-153Speaker: Кирилл Галактионов (Санкт-Петербургский государственный университет) -
28
Graph Neural Network-based neutron reconstruction in the HGND at the BM@N experiment
The Highly Granular Neutron Detector (HGND) is designed for the BM@N experiment, aimed at investigating neutron emission in heavy ion collisions at beam energies of up to 4A GeV. The HGND allows the identification of neutrons and the reconstruction of their energies using time-of-flight method, which is crucial for analyzing neutron yields and azimuthal flow. Given the challenging energy range of $0.5-4$ GeV and the significant background contributions in the BM@N environment, the development of advanced reconstruction algorithms is essential. In this contribution, we present a graph neural network approach to the neutron reconstruction problem and discuss the preliminary results of the proposed algorithm.
Speaker: Vladimir Bocharnikov (HSE University) -
29
Bayesian approach for centrality determination in nucleus-nucleus collisions in experiments at the NICA accelerator complex
One of the priority tasks being solved in the experiments BM@N and MPD at the NICA accelerator complex is to classify events into centrality classes. The centrality procedure allows us to estimate the initial geometry in heavy ion collisions using the relation between the observable and the impact parameter. The observable is usually the multiplicity of produced charged particles or the energy of the spectator nucleons [1, 2]. Determining centrality using forward detectors is an important task, as it will suppress the autocorrelation effect in measurements on proton multiplicity fluctuations and can provide an independent approach for centrality determination [3].
In this work, new methods are proposed for centrality determination based on the Bayesian approach using the measured energy of the spectator in the forward hadron calorimeter FHCal. The efficiency of the proposed methods was tested on data from the BM@N experiment for Xe+CsI collisions at a beam energy of 3.8 AGeV and on simulation data for Xe+W collisions at 2.5 AGeV in MPD-FXT. To estimate the accuracy of the proposed methods, the obtained results were compared with the classical approach based on the multiplicity of charged particles and the Glauber model.
References
1. Idrisov, D., Segal, I., Golosov, O. & Taranenko, A. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 627–630 (2024).
2. Parfenov, P., Idrisov, D., Luong, V. B. & Taranenko, A. Particles 4, 275–287 (2021).
3. HADES Collaboration et al. Eur. Phys. J. A 54, 85 (2018).Speaker: Dim Idrisov (INR RAS)
-
26
-
7. Nuclear medicine 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Универститет)
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Универститет
Convener: Alexandr Chernyaev (Lomonosov Moscow State University)-
30
Оценка вклада нейтронов в дозу при облучении протонами
При формировании терапевтического распределения дозы фиксированного пучка протонов с использованием их двойного рассеивания может возникать значительное количество вторичных нейтронов вследствие взаимодействия протонов с материалами защиты и системы формирования. Учёт дозовой нагрузки от нейтронного излучения важен для радиотерапии, поскольку нейтроны обладают высокой проникающей способностью и могут достигать глубоко залегающих органов, имея при этом более высокую относительную биологическую эффективность (ОБЭ) по сравнению с протонами. Поэтому контроль дозы от нейтронного излучения при протонной терапии важен как для качества лучевой терапии, так и для безопасности персонала и окружающей среды.
В компьютерную модель протонной лучевой установки ИЯИ РАН, подробно описанную в работе [1], добавлены виртуальные детекторы, собирающие данные по потокам нейтронов в зависимости от их энергии [2]. Для сбора данных выбраны принципиально значимые области, характеризующиеся взаимодействием пучка протонов с бетонной защитой, элементами системы формирования терапевтического пучка и дозиметрическим водным фантомом. Для получения вклада нейтронов в эффективную дозу использовались эмпирические коэффициенты пересчёта флюенса нейтронов в эффективную дозу [3]. Результатом работы является численная оценка пространственного распределения в процедурном помещении лучевой установки ИЯИ РАН эффективной дозы от нейтронного излучения, создаваемого в результате облучения заданного объёма мишени протонами с дозой 1 Гр. Этот результат будет использован при исследовании флэш-эффекта в облучении протонами биологических мишеней, включая живые модели.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-15-00040 «Разработка ядерно-физических и радиобиологических методов протонной флэш-терапии».- G. V. Merzlikin, S. V. Akulinichev, I.A. Yakovlev. «Simulation of a proton beam facility in the TOPAS MC software package». Moscow Univ. Phys. Bull. 11 (2023), doi.org/ 10.55959/MSU0579-9392.78.2310201.
- Sang-Eun Han, Gyuseong Cho, Se Byeong Lee. An Assessment of the Secondary Neutron Dose in the Passive Scattering Proton Beam Facility of the National Cancer Center,nNuclear Engineering and Technology, Volume 49, Issue 4, 2017, Pages 801-809, ISSN 1738-5733, doi.org/10.1016/j.net.2016.12.003.
- ICRP, 2010. Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures. ICRP Publication 116, Ann. ICRP 40(2-5).
Speaker: Григорий Мерзликин (ИЯИ РАН) -
31
Методика облучения протонами живых моделей во флэш-режиме
Проведение экспериментов по облучению лабораторных животных пучками протонов с высокой и сверхвысокой мощностью дозы является актуальной темой исследований в области медицинской физики и радиобиологии. Интерес обусловлен несколькими ключевыми аспектами, связанными с особенностями воздействия пучков высокой интенсивности на живые организмы, как физического, так и биологического характера. Исследование дает возможность оценить потенциальные терапевтические возможности внедрения протонной флэш-терапии в онкологии и исследовать биологические основы флэш-эффекта.
Подготовка к экспериментам по облучению животных (в данном случае - крыс линии Wistar (Rattus norvegicus)) состоит из оптимизации действующей установки комплекса протонной терапии ИЯИ РАН посредством последовательного подбора конфигурации формирующих устройств и оценки получаемых параметров поля облучения согласно модели [1] для симуляции работы установки с использованием библиотек Geant4 и ПО Topas MC. Рассмотрены возможные варианты комбинаций элементов лучевой установки – поглотителей, рассеивателей, модуляторов энергии и коллиматоров – с целью облучения мишеней (новообразований) различных размеров при минимальных потерях интенсивности излучения и минимальном облучении нормальных тканей.
Данная работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-15-00040 «Разработка ядерно-физических и радиобиологических методов протонной флэш-терапии».[1] G. V. Merzlikin, S. V. Akulinichev, I.A. Yakovlev. «Simulation of a proton beam facility in the TOPAS MC software package». Moscow Univ. Phys. Bull. 11 (2023), doi.org/10.55959/MSU0579-9392.78.2310201
Speaker: Иван Яковлев (ИЯИ РАН) -
32
Impact of unaccounted doses on the effectiveness of radiation therapy
Radiation therapy is widely used for the treatment of various types of cancer. However, several factors remain unaccounted for during the treatment planning stage, which may lead to additional dose exposure to the patient.
When medical electron linear accelerators operate at energies above 8 MeV, secondary neutron fluxes are generated. The dose contribution from these secondary neutrons is neither evaluated nor incorporated in current treatment planning systems [1]. To assess this contribution, a computer model of the linac head was developed and verified using measured percent depth dose (PDD) distributions in water. Monte Carlo simulations were performed to obtain the spectra of secondary neutrons and to evaluate their contribution to both absorbed and equivalent doses [1, 3].
Secondary neutrons may also be generated in structural components of proton accelerators and even within the patient's body during proton and hadron therapy. Modeling was carried out to estimate the additional neutron-induced dose from a rotating range modulator wheel of a proton accelerator. Additionally, to assess risks to staff and accompanying persons, neutron radiation parameters were calculated for proton beams interacting with a water phantom.
Another unaccounted factor is distortion in MR imaging, which can lead to discrepancies between the delivered and planned radiation therapy [2]. Experimental studies were conducted using MRI scanners with magnetic field strengths of 0.5 T and 1.5 T to evaluate image distortions in custom-made phantoms. Based on these MR images, a treatment plan was generated and compared with a plan based on CT imaging, and the resulting unaccounted dose was evaluated.
- Chernyaev, A., Belikhin, M., Lykova, E., & Shcherbakov, A. (2023). GEANT4 Simulation of Photoneutron Spectrum from Medical Linear Accelerator. Quantum Beam Science, 7(3),27. https://doi.org/10.3390/qubs7030027
- Lykova, E. N., Shcherbakov, A.A., Strelkovskaya, A. P., et al. (2024). Experimental Evaluation of MRI Image Distortion for Radiation Therapy Planning. Bulletin of Moscow University. Series 3: Physics. Astronomy, 79(4), 2440703. (In Russian)
- Chernyaev, A. P., Lykova, E. N., & Shcherbakov, A. A. (2023). Contribution of Secondary Particles to Absorbed Dose Formation During Radiation Therapy. Russian Nanotechnologies, 18(4), 540–546. https://doi.org/10.56304/S1992722323040052 (In Russian)
Speaker: Alexey Shcherbakov (Lomonosov Moscow State University) -
33
Протонная лучевая терапия на базе циклотрона Ц-80 в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ
Протонная лучевая терапия (ПЛТ) занимает особое место в клинической практике и применяется в тех ситуациях, когда особенности поглощения протонного пучка особенно полезны. В частности, высокие результаты достигнуты в протонной онкоофтальмологии. ПЛТ пациентов с внутриглазными злокачественными новообразованиями (ЗН) пучками протонов позволяет повысить вероятность локального контроля опухоли и снизить количество постлучевых осложнений, ведущих зачастую в энуклеации. На большом статистическом материале показано, что резорбция опухоли достигается в 98 % случаев, причём функция зрения (в той или иной степени) сохраняется у 48 % пациентов [1, 2]. Брахитерапия является методом выбора при лечении малых (3…10 мм) внутриглазных опухолей, использование аппарата Gamma-knife приводит к большому количеству постлучевых осложнений, хотя техника его применения сейчас становится всё более отработанной. Хирургическое вмешательство связано с потерей зрения и глаза. При этом ПЛТ пациентов с внутриглазными ЗН больших размеров (высота опухоли более 10 мм) является практически безальтернативным методом лечения, позволяющим в большинстве случаев сохранить глаз, а в половине случаев - зрение.
Стоит заметить, что глаз среди всех локализаций в ПЛТ является одним из самых сложных органов в контексте позиционирования и планировании облучения. Это связано с непосредственной близостью к структурам глаза, чувствительным к радиации. Также глаз является рентгенпрозрачной подвижной структурой, что создаёт трудности иммобилизации. Реализация технологии ПЛТ пациентов с внутриглазными ЗН — это сложный процесс, требующий вовлечения больших аппаратных, программных и информационных ресурсов на каждом из этапов проведения ПЛТ. Для контроля точности доставки дозы требуется системы мониторинга пучка и автоматизированного управления, работающие в реальном времени.
В докладе рассматриваются основные этапы технологии проведения ПЛТ пациентам с внутриглазными ЗН и результаты разработки соответствующих аппаратно-программных средств для её реализации в проекте создания онкоофтальмологического комплекса ПЛТ на базе циклотрона Ц-80 в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ. Терапевтический пучок протонов, генерируемый циклотроном Ц‑80, имеет энергию 70 МэВ. Это соответствует пробегу примерно 4 см в воде и позволяет облучать практически все локализации ЗН в области глаза и орбиты глаза. В рамках проекта создана система мониторинга протонного пучка, программное обеспечение верхнего и нижнего уровня для реализации технологического процесса, который в данном проекте выстроен на основе современных достижений лучевой терапии. Сооружение Онкоофтальмологического комплекса протонной лучевой терапии на базе циклотрона Ц-80 НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ и вывод его на проектную производительность решит проблему лечения сложных онкологических заболеваний таких, как меланома глаза, для целого региона РФ.
Цитируемая литература
1. Goitein G., Schallenbourg A., Verwey J. et al. Proton radiation therapy of ocular melanoma at PSI – long term analysis. // Abstracts of PTCOG 48 Meeting. Heidelberg, Germany, 2009.
2. Dendale R., Lumbroso-Le Rouic L., Noel G. et al. Proton beam radiotherapy for uveal melanoma: results of Curie Institute-Orsay proton therapy center (ICPO). // Intern. Journ. of Radiation, Oncology, Biology, Physics. 2006. Vol. 65. N 3. Р. 780-787.Speaker: Жанна Лебедева (ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»)
-
30
-
19:00
Приветственный концерт классической музыки Актовый зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Актовый зал
Санкт-Петербургский Государственный Университет
-
20:00
Фуршет
-
09:00
-
-
0. Plenary Лекторий Института Истории (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Лекторий Института Истории
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Plenary
Convener: Владимир Жеребчевский (СПбГУ)-
34
Гипероны в нейтронных звездах
Мы рассматриваем взаимосвязь между свойствами гиперонных взаимодействий и характеристиками нейтронных звезд. Как известно, включение в рассмотрение гиперонов приводит к смягчению уравнения состояния материи нейтронных звезд, что приводит к противоречию с наблюдениями нейтронных звезд с массами около двух масс Солнца. В этой связи особое значение приобретает вопрос о максимальном использовании современной информации о гиперонных взаимодействиях, базирующейся на данных по гиперядерным системам, для описания сильно нейтроноизбыточной материи нейтронных звезд при плотностях, в несколько раз превышающих ядерную плотность. При этом различные потенциалы гиперонных взаимодействий, хорошо описывающие гиперядерные данные, могут давать существенно различные уравнения состояния.
Будет рассмотрен статус текущих исследований гиперядер со странностью S= -1 и -2, а также представлены результаты расчетов характеристик нейтронных звезд, выполненных в рамках подхода с использованием современных гиперон-нуклонных и гиперон-гиперонных потенциалов Скирма, полученных из исследований гиперядер.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ 24-22-00077
Speaker: Татьяна Третьякова (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, МГУ имени М.В. Ломоносова) -
35
Self-consistent microscopic description of nobelium isotopes
Nobelium isotopes serve as a test gateway for theoretical models pretending to description of superheavy elements [1]. We give a general review of the present status of spectroscopy of nobelium isotopes and present a systematic investigation of their ground-state properties and low-energy spectra of $^{250-262}$No [2] in the framework of self-consistent Quasiparticle Random-Phase-Approximation (QRPA) with Skyrme forces [3]. The model was previously widely applied to exploration of low-energy spectra and fine structure of giant resonances in light, medium and heavy nuclei, see e.g. [4-6]. The monopole, quadrupole, octupole and hexadecapole excitations as well as some K-isomers of a high multipolarity in No isotopes are considered. The main attention is paid to nuclei $^{252}$No and $^{254}$No, for which the most extensive experimental spectroscopic information is available. In particular, we analyze a possible shell gap in neutron single-particle spectrum and corresponding drop of the neutron pairing in these isotopes. The features and assignment of K-isomers are discussed in detail, taking into account the latest experimental data [7-9]. The disputed $8^-$ isomer in $^{252}$No is firmly assigned. Low-energy pairing-vibrational $K^{\pi}=0^+$ states in $^{252,254}$No are predicted.
[1] R.-D. Herzberg and P.T. Greenlees, Prog. Part. Nucl. Phys. ${\bf 61}$, 674 (2008).
[2] V.O. Nesterenko, M.A. Mardyban, A. Repko, R.V. Jolos, P.-G.Reinhard, arXiv:2502.09096[nucl-th], to be published in Phys. Rev. C.
[3] A. Repko, J. Kvasil, V.O. Nesterenko, P.-G. Reinhard, Eur. Phys. J. A ${\bf 53}$, 221 (2017).
[4] G. Colo, D. Gambacurta, W. Kleinig, J. Kvasil, V.O. Nesterenko, A. Pastore, Phys. Lett. B ${\bf 811}$, 135940 (2020).
[5] A. Bahini, V.O. Nesterenko, et al, Phys. Rev. C ${\bf 105}$, 024311 (2022).
[6] V.O. Nesterenko, P.I. Vishnevskiy, P.-G. Reinhard, A. Repko, J.Kvasil, Eur. Phys. J. A ${\bf 60}$, 28 (2024).
[7] M.S. Tezekbayeva et al, Eur. Phys. J. A ${\bf 58}$, 52 (2022).
[8] M. Forge et al, J. Phys.: Conf. Series, ${\bf 2586}$, 012083 (2023).
[9] S.G. Wahid et al, Phys. Rev. C ${\bf 111}$, 034320 (2025).Speaker: Valentin Nesterenko (Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research) -
36
Водородоподобная симметрия в спектрах легких мезонов
Явление конфаймента кварков и глюонов считается главной нерешенной проблемой в физике сильных взаимодействий. Одно из ярких проявлений конфаймента состоит в наблюдении приблизительно линейных реджевских траекторий в спектрах легких адронов. Около двадцати лет назад одним из автором было замечено и обосновано существование приближенной симметрии в этих траекториях, причем симметрия имеет такой же вид, как в уровнях энергии атома водорода, где она возникает из-за кулоновского вырождения. В докладе обсуждается статус данной симметрии в свете новых данных, полученных за последние двадцать лет, включая недавнее экспериментальное обнаружение резонанса a0(1710), предсказанного из этой симметрии. Также обсуждается качественное объяснение возникающей симметрии на основе модели адронных струн.
Speaker: Сергей Афонин (Санкт-Петербургский государственный университет) -
37
Phase diagram structure of QCD under critical conditions
We present recent advances in understanding the phase diagram structure of quantum chromodynamic (QCD) matter under extreme conditions—specifically, at large temperatures, high chemical potentials, and strong magnetic fields—in both isotropic and anisotropic environments. These results are derived using the holographic approach, which bridges gauge theories and gravitational duals to explore non-perturbative regimes of QCD. Key findings include the identification of novel phase transitions, critical points, and magneto-thermodynamic behavior under anisotropy. Additionally, we address potential experimental pathways to test these theoretical predictions, emphasizing collider experiments, including possible heavy-ion collision studies at NICA.
Speaker: Irina Aref'eva (Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia)
-
34
-
Few-Body Systems Зал Пространства Менделеев (Пространство Менделеев)
Зал Пространства Менделеев
Пространство Менделеев
Невский проспект, дом 1Convener: Сергей Яковлев (Санкт-Петербургский государственный университет)-
38
Extrapolation to infinite model space of no-core shell model results using machine learning
A machine learning approach to extrapolation of the ab initio no-core shell model (NCSM) [1] results to the infinite model space has been suggested in Ref. [2]. We modified this approach in Refs. [3,4] and proposed training an ensemble of artificial neural networks (ANN) with different topology and formulated selection rules both for the NCSM results used for the training and for the trained ANNs. Our approach was tested in Refs. [3,4] in extrapolations of energies and rms radii of light nuclei. Here we apply this modified extrapolation approach to calculations of quadrupole moments and probabilities of E2 transitions in 10Be and 10C nuclei based on the NCSM calculations [5] with NN interaction Daejeon16 [6] in model spaces up to many body excitation quanta Nmax=12.
References
1. B. R. Barrett, P. Navrátil, J. P. Vary, Prog. Part. Nucl. Phys. 69, 131 (2013).
2. G. A. Negoita et al., Phys. Rev. C 99, 054308 (2019).
3. A. I. Mazur et al., Moscow Univ. Phys. 79 (3), 318 (2024).
4. R. E. Sharypov et al., Phys. At. Nucl. 87 (Suppl. 2), S400 (2024).
5. H. Li et al. Phys. Rev. C 110, 064325 (2024).
6. A. M. Shirokov et al., Phys. Lett. B 761, 87 (2016).Speaker: Aleksandr Mazur (Pacific National University, Khabarovsk, Russia) -
39
Coulomb interaction in the HORSE formalism
The $J$-matrix formalism in the oscillator basis, known also as the HORSE (Harmonic oscillator representation for scattering equations) [1] formlism, is used for calculations of elastic scattering, nuclear resonant states and reactions. Within the HORSE, the tridiagonal infinite kinetic energy matrix is fully taken into account, ensuring the correct asymptotic behavior of the wave function, while the potential energy matrix of the nuclear interaction is truncated at a certain radial quantum number. In the case of the Coulomb interaction, such a truncation leads to inaccurate results. Based on the ideas of the Kiev group [2], we suggested a method [3] to allow for the long-range part of the Coulomb interaction by a diagonal addition to the Hamiltonian matrix elements in the asymptotic region. However, unlike Ref. [2], we use a soft cutoff of the nuclear potential matrix as proposed in Ref. [4]. This allows us to obtain accurate results using fewer resources, since our approach does not require the calculation of a large number of Coulomb matrix elements.
For applications to ab initio calculations in many-body systems it is promising to combine our version of the HORSE formalism for charged particles with the modification of the Hulthén–Kohn variational method proposed by V. D. Efros [5] as suggested in Ref. [6]. We investigate the applicability of this approach and study its convergence using a model problem.
- J. M. Bang, A. I. Mazur, A. M. Shirokov, Yu. F. Smirnov, and S. A. Zaytsev, Ann. Phys. (NY) 280, 299 (2000).
- I. P. Okhrimenko, Nucl. Phys. A. 424, 121 (1984).
- U. M. Yanikov, V. A. Kulikov, and A. M. Shirokov, arxiv:2504.04627 [nucl- th] (2025).
- J. Révai, M. Sotona, and J. Žofka, J. Phys. G 11, 745 (1985).
- V. D. Efros, Phys. Rev. C 99, 034620 (2019).
- M. A. Sharaf, A. M. Shirokov, W. Du, and J. P. Vary, arXiv:2408.05656 [nucl-th] (2024).
Speaker: V. A. Kulikov (Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia) -
40
Связанное состояние ядра 6He в подходе SS-HORSE-NCSM
Подход SS-HORSE [1], позволяющий описывать состояния непрерывного спектра на основе расчётов ab initio в модели оболочек без инертного кора (англ. No-Core Shell Model, NCSM) [2], был использован для определения положения полюса $S$-матрицы, со-ответствующего связанному состоянию ядра ${}^6$He в закрытом канале распада на три фраг-мента (ядро ${}^4$He и два нейтрона). Определение положения полюса S-матрицы позволяет рассчитать энергию Eb связанного состояния относительно порога канала.
Энергия связи $E_b =-1.037 \pm 0.012$ МэВ, полученная в результате расчетов NCSM в различных модельных пространствах с квантами возбуждения до $N_\text{max}=18$ с использованием реалистичного нуклон-нуклонного взаимодействия Daejeon16 [3], находится в разумном согласии с экспериментальными данными в -0.973 МэВ [4].
- I. A. Mazur, M. K. Efimenko, A. I. Mazur, I. J. Shin, V. A. Kulikov, A. M. Shirokov, and J. P. Vary, Phys. Rev. C 110, 014004 (2024).
- B. R. Barrett, J. P. Navrátil, and Vary, Prog. Part. Nucl. Phys. 69, 131–181 (2013).
- A. M. Shirokov, I. J. Shin, Y. Kim, M. Sosonkina, P. Maris, and J. P. Vary, Phys. Lett. B, 761, 87 (2016).
- D. R. Tilley, C. M. Cheves, J. L. Godwin, G. M. Hale, H. M. Hofmann, J. H. Kelley, C. G. Sheu, and H. R. Weller, Nucl. Phys. A 708, 3 (2002).
Speaker: Мария Ефименко (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия) -
11:00
coffee break
-
41
The properties of some rare gas dimers
The properties of rare gas dimers are investigated. The spectrum of the neon dimer is computed by solving a differential equation, and the results are compared with existing theoretical data obtained using alternative approaches.
Speaker: Denis Shalapinin (Dubna State University) -
42
Van der Waals three-body systems and Efimov state
Van der Waals molecules at ultralow energies are of significant interest in both experimental and theoretical research [1]. The ability to control the scattering length in ultracold gases makes these systems ideal for studying Efimov physics experimentally. Following the first successful observation of Efimov states in an ultracold cesium gas [2], numerous experimental studies have reported evidence of Efimov states in three-atomic systems consisting of He, Li, K, Rb, Cs, and their combinations (see review [3]).
The properties of ultracold triatomic systems are governed by van der Waals interactions. By analyzing the interaction potentials between different atomic species, we investigate the possible existence of Efimov states in these three-body systems.- V. Efimov, Phys. Lett. B 33, 563 (1970).
- T. Kramer et al., Nature 440, 315 (2006).
- P. Naidon and Sh. Endo, Rep. Prog. Phys. 80, 056001 (2017).
Speaker: Elena Kolganova (BLTP JINR) -
43
From muon-catalyzed fusion to electromagnetic formfactors of hyperons
Deviation of the cross section for the nuclear reaction X(a, b)Y from the Gamow formula due to an interaction additional to the Coulomb one in the entrance channel has been analyzed. It is shown that the reaction cross section has an oscillating structure at low energies. If the maximum of the first oscillation is close to the threshold of the channel a+X, it has a resonance behavior. To analyze the effect, simple relations between the period and the amplitude of the oscillations with parameters of the interaction have been derived. Specifically, they predict the cross-section oscillations of fusion (or muon-catalyzed fusion) reactions of the type X(a,b)Y for slow collisions between nuclei (a) and atomic target (X), as, for example, the reaction D(d,p)T between deuterons (d) and deuterium atoms (D)[1].
This simple formalism is used for analyzing the experimental data on process $e^{+}$ + $e^{-} \rightarrow \Lambda^{+}_{c}$ + $\Lambda^{-}_{c}$ obtained recently by the BESIII Collaboration [2].[1] V.S. Melezhik, Nucl. Phys. A550, 223 (1992)
[2] M. Ablikim et. al.Phys. Rev. Lett. 131, 191901 (2023)Speaker: Vladimir Melezhik (JINR, Dubna) -
44
Investigation of spectral structure of 11Be in breakup reactions within quantum-quasiclassical approach
We investigate the breakup of $^{11}$Be halo nuclei on a light ($^{12}$C) and heavy ($^{208}$Pb) targets from intermediate (67 MeV/nucleon) to low (5-30 MeV/nucleon) energies within non-perturbative quantum-quasiclassical approach, in which the three dimensional time-dependent Schrödinger equation for halo nucleon was integrated simultaneously with the classical Hamiltonian equations describing relative projectile-target dynamics.
The uniqueness of our calculations lies in the inclusion of low-lying resonances (3/2$^{-}$, 3/2$^{+}$ and 5/2$^{+}$) in the breakup cross section of the $^{11}$Ве nucleus. The obtained results describe well the existing experimental data and also are in comparative agreement with other existing calculations performed with alternative theoretical models at 67 MeV/nucleon and 20 MeV/nucleon. Summarizing, the developed computational scheme can potentially be useful for interpretation of low-energy experiments on studying breakup of halo nuclei.Speaker: Valiolda Dinara (Institute of Nuclear Physics, Almaty, Qazaqstan / Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russian Federation) -
12:40
coffee break
-
45
Momentum distributions for correlated nucleons in spin-singlet channels
Study of short-range correlations (SRC) of nucleons is very relevant in nuclear physics. One of the main problems within it is an isospin dependence of SRC showing an essential domination of np over pp or nn correlated pairs. At the same time, a quantitative description of high-momentum components of the distributions for spin-singlet pairs is complicated due to the absence of bound states in the corresponding $^1S_0$ channels. We suggest a formalism for a quantitative treatment of SRC for such NN configurations based on the momentum distributions for the virtual states which expected to be quite suitable for calculations in nuclei within the contact formalisms. A procedure for the practical calculation of the above virtual-state distributions from the low-energy scattering wave functions is developed which is based on the relation of Fäldt and Wilkin [1].
As numerical applications, we test found distributions by using the contact formalism [2] to approximate two-nucleon momentum distributions in several light nuclei for different realistic models of the NN interaction. Special attention is paid to the differences caused by employment of the dibaryon model [3,4] which accounts effectively for non-nucleonic degrees of freedom. The results obtained might be useful for researchers working on the SRC problem.- G. Fäldt, C. Wilkin, Physica Scripta 56, 566 (1997).
- M. Alvioli, C. Ciofi degli Atti, H. Morita, Phys. Rev. C 94, 044309 (2016).
- V.I. Kukulin et al., Chin. Phys. C 46, 114106 (2022).
- O.A. Rubtsova, V.N. Pomerantsev, M.N. Platonova, Int. J. Mod. Phys. E 33, 2441030 (2024).
Speaker: Olga Rubtsova (Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University) -
46
A 2D lattice system of two identical particles with interactions up to next-to-neighboring sites
We consider the lattice Schr\"odinger operator $H_{\gamma \lambda \mu}(K)$ associated with a system of two identical particles on the two-dimensional square lattice $\mathbb{Z}^2$. It is assumed that the center-of-mass quasimomentum $K$ equals zero and that the particles may interact with each other either on-site or on the first and second nearest neighbouring sites in the lattice. These interactions have magnitudes $\gamma$, $\lambda$ and $\mu$, respectively. We study the discrete spectrum of parts of the operator $H_{\gamma \lambda \mu}(0)$ in its certain reducing subspaces (the fermion subspace and a part of the boson subspace). We partition the corresponding $(\lambda,\mu)$- and $(\gamma,\lambda,\mu)$-parameter sets into connected components such that, in each component, the involved part of the Hamiltonian $H_{\gamma \lambda \mu}(0)$ has fixed numbers of eigenvalues below the bottom of the essential spectrum and above its top.
The talk is based on joint works [1] with S.N.Lakaev, S.Kh.,Abdukhakimov and [2] with S.N.Lakaev, M.O.Akhmadova.
This research was supported in part by the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan (Grant No. FZ-20200929224).
[1] S.N. Lakaev, A.K. Motovilov, and S.Kh.Abdukhakimov, "Two-fermion lattice Hamiltonian with first and second nearest-neighboring-site interactions", J. Phys. A: Math. Theor. 56 (2023), 315202 [23 pages].
[2] S.N. Lakaev, A.K. Motovilov, and M.O.Akhmadova, "A two-boson lattice Hamiltonian with interactions up to next-neighboring sites", arXiv:2410.07070 (2024).
Speaker: Alexander K. Motovilov -
47
Gailitis-Damburg oscillations in scattering of positrons, electrons and muons off (anti)Hydrogen atom
The Gailitis-Damburg (GD) oscillations are the near threshold singularities of cross-sections of reactive scattering predicted to exist in atomic systems [1, 2, 3]. They are the infinite series of logarithmically spaced maxima and minima of cross-section that can arise above the threshold of excited state of an atom due to the induced dipole interaction between the atom and the spectator particle. Sadly, there is no available experimental data that could confirm or disprove the phenomenon. Only a few recent computational studies of scattering in the positron-antiproton-electron e+e- system devoted to improving the conditions of experiments with antimatter have observed the signs of it [4, 5, 6].
In this regard we present the results of our theoretical study of the behavior of cross sections of low-energy scattering in the systems positron-antiproton-electron e+e-, electron-proton-electron e-pe- and electron-proton-muon pe-. Our model-free computational experiment is based on a solution of the Merkuriev-Faddeev equations in the total orbital momentum representation [7, 8] and the recently obtained original theoretical results on the wave function asymptote for the three-body Coulomb system that takes into account the induced dipole interaction between a free particle and a bound pair of particles [9]. It makes our results including those that are obtained at sufficiently small above threshold energies very reliable. For all the considered atomic systems we have observed the existence of the GD oscillations in the partial cross sections. However, in the total scattering cross sections the oscillations tend to smooth out for the explored processes. We discuss in our talk the opportunity of obtaining the oscillations in the total cross sections in future research. By comparing the results obtained for the e-pe- and pe- systems we discuss the dependence of oscillations on the masses of constituent particles.
References
- M. Gailitis and R. Damburg, Sov. Phys. JETP 17, 1107 (1963)
- M. Gailitis and R. Damburg, Proc. Phys. Soc. 82, 192 (1963)
- P. G. Burke, R-Matrix Theory of Atomic Collisions (Springer, Heidelberg, 2011).
- C.-Y. Hu, D. Caballero, and Z. Papp, Phys. Rev. Lett. 88, 063401 (2002)
- I. I. Fabrikant, A. W. Bray, A. S. Kadyrov, and I. Bray, Phys. Rev. A 94, 012701 (2016)
- M. Valdes, M. Dufour, R. Lazauskas, and P.-A. Hervieux, Phys. Rev. A 97, 012709 (2018)
- V. V. Kostrykin, A. A. Kvitsinsky, and S. P. Merkuriev, Few Body Syst. 6, 97 (1989)
- V. A. Gradusov, V. A. Roudnev, E. A. Yarevsky, and S. L. Yakovlev, Commun. Comput. Phys. 30, 255 (2021)
- V. A. Gradusov, S. L. Yakovlev, Theor. Math. Phys. 221, 1744 (2024)
Speaker: Vitaly Gradusov (Saint Petersburg State University) -
48
Эффекты наведенной поляризации при рассеянии в системе позитрон-протон-электрон
Рассмотрена задача рассеяния заряженной частицы на двухчастичной системе-мишени, связанной притягивающим кулоновским взаимодействием. Хотя основной вклад в асимптотику волновой функции и ее компонент вносит асимптотическое кулоновское взаимодействие между двухчастичной мишенью и налетающей частицей, следующие дальнодействующие члены мультипольного разложения этого взаимодействия играют важную роль в области энергий, в которой открыты каналы возбужденного состояния мишени [1,2]. В этом сообщении мы приводим явные асимптотические представления для компонент волновой функции, которые учитывают как кулоновское, так и индуцированное дипольное взаимодействие между двухчастичной мишенью и налетающей частицей, полученные в [3]. Обсуждается роль открытых и закрытых каналов. Полученная асимптотика предназначается для использования в расчетах рассеяния электронов и позитронов на атомах водорода в области энергий выше порогов возбужденных состояний мишени, где индуцированное дипольное взаимодействие производит специфические эффекты в данных рассеяния [4,5]. Для описания процесса рассеяния используется система уравнений Фаддеева-Меркурьева [6].
- M. Gailitis, J. Phys. B: Atom. Mol. Phys. 9, 843 (1976).
- V.А. Gradusov, S.L. Yakovlev, JETP Letters 119, No. 3, 151 (2024).
- V.A. Gradusov, S.L. Yakovlev, Theor. Math. Phys., 221, No. 1, 1744–1755 (2024)
- V.A. Gradusov et al., J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 52, 055202 (2019).
- V.A. Gradusov et al., JETP Letters 114, No. 1, 11 (2021).
- L.D. Faddeev and S.P. Merkuriev, Quantum Scattering Theory for Several Particle Systems, Kluwer, Dordrecht (1993).
Speaker: Сергей Яковлев (Санкт-Петербургский государственный университет)
-
38
-
11:00
кофе-брейк
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
70(2013)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Valentin Nesterenko (Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research)-
49
Isotope-shift factors with quantum electrodynamics effects for many-electron systems: A study of the nuclear charge radius of $^{26m}$Al
Accurate determination of nuclear charge radii serves as a sensitive test of various aspects of nuclear structure and provides an important benchmark for the development of nuclear models~[1]. Precise charge radius measurements can also constrain the parameters of the nuclear matter equation of state. The knowledge of nuclear charge radii for certain isotopes is crucial for testing fundamental particle physics models. The Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrix plays a central role in describing quark-flavour mixing via the weak interaction within the Standard Model (SM). According to the SM, the CKM matrix must be unitary, but this property requires experimental verification. Any deviation from unitarity could signal new physics beyond the SM. Significant efforts are underway to test this unitarity~[2]. The deviation from unitarity in the top row of the CKM matrix can be quantified by the parameter $\Delta_{\rm CKM} = 1 - (|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 + |V_{ub}|^2)$, which should be zero if the matrix is unitary. The largest $V_{ud}$ element can be extracted from a global analysis of superallowed $0^+ \to 0^+$ nuclear $\beta$ decays of certain isotopes~[2]. Among these, the superallowed $\beta$ decay of the isomer $^{26m}$Al is of particular importance, as it exhibits the smallest nuclear-structure-dependent corrections~[2]. Several corrections must be calculated to relate the experimentally measured $ft$ value (which characterizes the superallowed $\beta$ decay) to the $V_{ud}$. One of these corrections is the isospin-symmetry-breaking term, which depends on the nuclear mean-square (ms) charge radius. This radius can be extracted from isotope shift (IS) measurements, which in turn require accurate knowledge of atomic parameters known as the field and mass shifts—a challenge for modern many-body atomic theory.
A method for calculating the field shift contribution to isotope shifts in many-electron atoms, including quantum electrodynamics (QED) effects, has been introduced~[3]. We also implement a model QED approach to incorporate QED corrections to the nuclear recoil effect proposed in Ref.~[4]. The developed computational scheme utilizes advanced methods such as coupled cluster with single, double, triple and perturbative quadruple excitations, CCSDT(Q), to accurately account for electron correlation effects beyond the 6 order of perturbation theory. For the first time for a many-electron atom, achieved theoretical uncertainty required consideration of the QED effects.
By combining our calculated atomic factors with the recently measured isotope shift of the $3s^2 3p~^2P_{3/2} \to 3s^2 4s~^2S_{1/2}$ transition in Al, we obtain a difference in ms charge radii between $^{27}$Al and $^{26m}$Al of $0.443(44)(19)~\text{fm}^2$, where the first and second uncertainties are experimental and theoretical, respectively. The theoretical uncertainty has been reduced by a factor of four compared to previous works. Using this result and the known charge radius of $^{27}$Al, we derive $R_c(^{26m}\text{Al}) = 3.132(10)~\text{fm}$. With the improved accuracy of the calculated IS factors, the uncertainty in $R_c(^{26m}\text{Al})$ is now dominated by experimental error. We also revise charge radii of $^{28}$Al, $^{29}$Al, $^{30}$Al, $^{31}$Al, and $^{32}$Al using existing IS data. Additionally, we compute atomic factors for the $3s^2 3p~^2P_{3/2} \to 3s^2 4s~^2S_{1/2}$, $3s^2 3p~^2P_{1/2} \to 3s^2 5s~^2S_{1/2}$, and $3s^2 3p~^2P_{3/2} \to 3s^2 5s~^2S_{1/2}$ transitions in Al, which can be used in future experiments.
The improved rms charge radius of $^{26m}$Al directly affects the evaluation of the $V_{ud}$ element of the CKM matrix and, consequently, has important implications for testing the unitarity of the CKM matrix.Electronic structure calculations were supported by the Russian Science Foundation (Grant No. 24-12-00092 (https://rscf.ru/en/project/24-12-00092/). Analysis of results were supported by the Foundation for the Advancement of Theoretical Physics and Mathematics BASIS (Project No. 24-1-1-36-1).
-
X.F. Yang, S.J.Wang, S.G.Wilkins, R.F.Garcia Ruiz, Prog. Part. Nucl. Phys. \textbf{125}, 104005 (2022).
-
J.C. Hardy, I.S. Towner, Phys. Rev. C \textbf{102}, 045501 (2020).
-
L.V. Skripnikov, S.D. Prosnyak, A.V. Malyshev et al., Phys. Rev. A \textbf{110}, 012807 (2024).
-
M. Anisimova, D.A. Glazov, A.V. Volotka, V.M. Shabaev, G. Plunien,
Phys. Rev. A \textbf{106}, 062823 (2022).
Speaker: Leonid Skripnikov (NRC «Kurchatov Institute» - PNPI & SPbU) -
-
50
Data-driven refinement of microscopic $\gamma$-ray strength functions for Nd isotopes
The $\gamma$-ray strength function ($\gamma$SF) is one of the most important nuclear properties, describing the probability of gamma-ray emission or absorption as a function of energy and plays an important role in understanding nuclear reactions [1, 2]. That's why extensive efforts have been made over the past decades to develop numerous phenomenological and microscopic models for $\gamma$SF [3, 4]. While microscopic models offer a more fundamental description, they often struggle to precisely reproduce experimental $\gamma$SF data [5-9]. To address this problem, a correction method for $\gamma$SF using some adjustable parameters to improve the model predictions against experimental data has been implemented in the TALYS nuclear reaction code [4]. This work determines the optimal values of these parameters for microscopic GSF models for neodymium (Nd) isotopes by analyzing existing experimental $\gamma$SF data for investigating the photonuclear reactions. The results demonstrate that by applying these adjustable parameters, the predictive accuracy of microscopic models for radiative neutron capture and photonuclear reaction cross-sections can be significantly improved. This improvement has important implications for various fields in nuclear physics and technology.
Keywords: Gamma-ray Strength Function, Microscopic Models, Data-Driven Refinement
References
- M. Sepiani and M.N. Nasrabadi, "Validity analysis of $\gamma$-ray strength function models for radiative capture reactions of heavy nuclei," International Journal of Modern Physics E, p. 2441004, 2024.
- D. Mondal et al., "Probing the role of photon strength function models in determining the properties of the hot giant dipole resonance," Physical Review C, vol. 109, no. 5, p. 054322, 2024.
- J. Bar-Touv and S. Mordechai, "Systematics of the double giant dipole resonances in nuclei," Physical Review C, vol. 45, no. 1, p. 197, 1992.
- A. Koning, S. Hilaire, and S. Goriely, "TALYS: modeling of nuclear reactions," The European Physical Journal A, vol. 59, no. 6, p. 131, 2023.
- S. Goriely et al., "Reference database for photon strength functions," The European Physical Journal A, vol. 55, pp. 1-52, 2019.
- S. Peru, S. Goriely, and S. Hilaire, "Photon strength function modelling, status and perspectives," in EPJ Web of Conferences, 2025, vol. 322: EDP Sciences, p. 06003.
- O. Achakovskiy, A. Avdeenkov, and S. Kamerdzhiev, "On the microscopic nature of the photon strength function," arXiv preprint arXiv:1412.0268, 2014.
- O. Achakovskiy, A. Avdeenkov, S. Goriely, S. Kamerdzhiev, S. Krewald, and D. Voitenkov, "Microscopic nature of the photon strength function: stable and unstable Ni and Sn isotopes," in EPJ Web of Conferences, 2015, vol. 93: EDP Sciences, p. 01034.
- S. Kamerdzhiev and D. Voitenkov, "On microscopic theory of the gamma-ray strength functions," arXiv preprint arXiv:1110.0654, 2011.
Speaker: Mehdi Nasri Nasrabadi (Faculty of Physics, University of Isfahan, 81746-73441, Isfahan, Iran; Joint Institute for Nuclear Research, 141980, Dubna, Russia) -
51
Nuclear shape evolution in the lead region around the neutron midshell (N = 104)
Modern laser spectroscopy techniques have sufficient sensitivity to measure extremely small shifts in the energy of the atomic electron levels, arising from changes in the charge distribution of the nucleus. For a given isotopic chain, this effect, known as the isotope shift (IS), arises due to changes in the nuclear mass and size. The change in mean-square charge radius ($\delta\langle r^2\rangle$) can be extracted from the IS in a nuclear-model independent way. Moreover, spin, magnetic dipole and electric quadrupole moments can be deduced from the hyperfine splitting of optical lines. The superior efficiency of the laser spectroscopy paves the way to investigation of the most exotic nuclei far from stability. The laser spectroscopy is therefore a powerful tool of probing the nuclear ground states and isomers that enable to obtain important information about shape evolution and shape coexistence in different regions of the nuclide chart.
The neutron-deficient isotopes in the lead region ($Z$ = 82) exhibit striking variety of nuclear shape evolution phenomena. During the last decade, our collaboration at the ISOLDE facility in CERN performed extensive and successful laser and nuclear-spectroscopic studies of the long chains of the Hg ($Z$ = 80) [1], Tl ($Z$ = 81), Pb, Bi ($Z$ = 83) [2] and Au ($Z$ = 79) [3] isotopes. Developed in PNPI the method of the in-source resonance ionization spectroscopy proves to be the most efficient among the laser spectroscopy techniques. It gives the possibility to study the isotopes with production rate in the target less than 1 ion in 100 s.
Our recent in-source spectroscopy studies have shown that the gold, mercury, and bismuth chains display dramatic changes in ground-state deformation near the neutron mid-shell at $N$ = 104. The observed jumps in $\delta\langle r^2\rangle$ indicate sudden transitions from near-spherical to strongly deformed configurations. At the same time, the patterns of nuclear shape evolution for these elements prove to be very different.
The experimental results for gold and bismuth nuclei are compared to mean-field calculations. The calculations reproduce the unusual behavior of $\delta\langle r^2\rangle$ quite well only when the nuclear ground states are chosen in accordance with experimental spin and magnetic moments rather than the energy of the corresponding levels. The general applicability of our approach was also investigated by performing calculations for neutron-deficient nuclei from mercury to astatine ($Z$ = 85).
- B.A. Marsh $et$ $al.$, Nat. Phys. $\bf{14}$, 1163 (2018).
- A. Barzakh $et$ $al.$, Phys. Rev. Lett. $\bf{127}$, 192501 (2021).
- J.G. Cubiss $et$ $al.$, Phys. Rev. Lett. $\bf{131}$, 202501 (2023).
Speaker: Pavel Molkanov (Petersburg Nuclear Physics Institute of National Research Center “Kurchatov Institute”, Gatchina, Russia) -
52
Slowing down of electromagnetic transitions of atomic nuclei in metals as a sign of time dilation for these nuclei
Nuclear conversion transitions (the scattering of atomic electrons on nucleons of excited nuclei with the energy transfer ΔE) for isomeric nuclei 235mU (ΔE = 76 eV), 154mEu (ΔE = 910 eV) and 99mTc (ΔE = 2.1 keV) slow down when atoms with isomeric nuclei are transferred from the surface of metals into the interior of metals (see review [1]). The slowing down of these transitions for nuclei in metals is not explained by a change in the chemical state of their atoms or by the scattering of conversion electrons on metal atoms. This distinguishes the suppression of nuclear transitions in metals from the suppression of atomic transitions in a small metal cavity (see, e.g., review [2] on cavity quantum electrodynamics), when the increase in the lifetime of excited atomic states can in principle be explained by the reverse absorption of emitted photons by atoms when the photons are reflected from the walls of the cavity.
Slowing down of conversion transitions of nuclei in metals can be caused by metals suppression of zero-point fluctuations of the electromagnetic field (ZPFs), which stimulate conversion transitions [3]. Then the slowing down of these transitions can be interpreted as a slowing down of time for atomic nuclei in the metal. In this case, ZPFs act as a global clock, and time intervals are determined by the number of ZPFs quanta stimulating the interaction of particles. This concept of time corresponds to the relational theory, which considers time as a relationship between material objects (see, e.g., [4]).- V.V. Koltsov, St.-Petersburg State Polytechnical University Journal. Phys. and Math., 16(1.2), 302 (2023). doi: 10.18721/JPM.161.246.
- H. Walther et al., Rep. Prog. Phys., 69, 1329 (2006).
- V.V. Koltsov, J. Phys.: Conf. Ser., 2701, 012121 (2024).
- Dyke H. Time. P.1 (2023). (Cambridge university press). DOI: 10.1017/9781108935517.
Speaker: Vladimir Koltsov (Khlopin Radium Institute, Saint-Petersburg.) -
53
Gamow-Teller decay studies with the 2p-2h configurations
The β-decay properties are very important for understanding the nuclear structure evolution at extreme N/Z ratios, for analysis of radioactive ion-beam experiments, and modeling of the astrophysical r-process. For this reason, the theoretical calculations of the β-decay properties of the “waiting-point nuclei” 129Ag, 130Cd, and 131In provides the valuable information. One of the successful tools for nuclear structure studies is the quasiparticle random phase approximation (QRPA) with the self-consistent mean-field derived from the Skyrme energy density functional (EDF). The framework allows to relate the properties of the ground states and excited states through the EDF. There is the discrepancy between the QRPA predictions and the measurements for low-energy 1+ spectrum of the daughter nucleus, see as an example [1]. The number of low-lying 1+ states and the corresponding Gamow-Teller fragmentation are naturally reproduced by the inclusion of the tensor correlations and the coupling between one- and two-phonon terms in the 1+ wave functions [2-4]. We applied the influence of the phonon-phonon coupling on the probability of the neutron emission occurring at very small quantity of energy available in β-decay. Onset of delayed neutron emission in Cd isotopic chain is discussed.
Speaker: Alexey Severyukhin (BLTP, JINR) -
54
Of Gamow-Teller strength distribution in medium-heavy-mass magic parent nuclei
Having unique abilities in theoretical investigations of various giant resonances in medium-heavy-mass magic nuclei, the semi-microscopic Particle-Hole Dispersive Optical Model (PHDOM) has been implemented, in particular, to describing main properties of Gamow-Teller (GT) resonance in mentioned parent nuclei [1]. In the present work, this study is continued, being aimed to deduce from a comparison of calculated and experimental GT strength distributions the (dimensionless) strength g’ of the spin-isospin part of Landau-Migdal p-h interaction and also the quenching factor Q. Apart from these quantities, the mean-field parameters (taken from independent data [1]) and the “spreading” parameters (appeared in the energy-averaged p-h self-energy term responsible for the spreading effect) are the input quantities used in the employed implementation of PHDOM. For nuclei under consideration, the values of g’ and Q, and “spreading” parameters are deduced (by the χ^2 -method) from a comparison of experimental and calculated within PHDOM the GT strength distributions in wide excitation-energy intervals. The deduced values given in the Table
Niclei 48Ca 90Zr 132Sn 208Pb
g' 0,75 0,69 0,63 0,61
Q 0,67 0,70 0,67 0,73are in reasonable agreement with the quantities deduced in Ref. [2] from a description of nuclear magnetic moments within Migdal’s Finite-Fermi-System Theory.
References
[1] V.I.Bondarenko, M.H.Urin. Phys.Rev. C 106, 024331 (2022).
[2] I.N. Borzov, E.E. Saperstein, S.V. Tolokonnikov. Phys. At. Nucl. 71, 469 (2008).Speaker: Vladimir Bondarenko (NRC "Kurchatov Institute")
-
49
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Alexey Barabanov (National Research Centre “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia)-
55
Description of the $^{3}$H($d$, $n$)$^{4}$He reaction at low energies within the microscopic multichannel cluster approach
In the present work, the $^{3}$H(d, n)$^{4}$He fusion reaction being of interest for both fundamental and applied physics is studied at low energies. Dynamics of the reaction is described by using the microscopic multichannel cluster approach in the oscillator representation [1–3]. The total and partial cross sections for the studied reaction in terms of the astrophysical $S$ factors are calculated. The 3/2$^{+}$ state of the considered five-nucleon system is shown to play a dominating role in forming low-energy dependence of the total $S$ factor. The calculated results are in good agreement with the experimental data.
- A.S. Solovyev, Phys. Rev. C 106, 014610 (2022).
- A.S. Solovyev, Eur. Phys. J. A 60, 32 (2024).
- A.S. Solovyev, Phys. At. Nucl. 87, 112 (2024).
Speaker: Alexander Solovyev (Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)) -
56
Измерение угловых распределений распада 7He
В работе [1] были представлены результаты анализа спектра 7Не, заселямого в реакции 6Не(d,p) в инверсной кинематике. Для регистрации нейтронов из распадов 7Не → 6He + n и 7Не → 4He + 3n был использован массив нейтронных детекторов, расположенных на расстоянии 3.5 метров за мишенью, при этом заряженные продукты распада (4,6He) детектировались тонким сцинтиллятором установленным на расстоянии 80 см от мишени. Угловой аксептанс нейтронного детектора позволил измерить угловое распределение только для распада основного состояния 7Не, а для спектра возбужденных состояний измерялось только время пролета заряженных частиц до сцинтилляционного детектора, что существенно ограничивало возможности модельного анализа.
В новом эксперименте заряженные продукты распада регистрировались телескопом, расположенным под нулем градусов на расстоянии 25 см за мишенью и состоящего из тонкого позиционно-чувствительного кремниевого детектора и детектора полного поглощения на основе кристаллов LYSO. ∆Е-Е анализ позволил однозначно идентифицировать изотопы, т.е. разделять каналы распада 7Не в основное и первое возбужденное состояние (Jπ = 2+ ) 6Не. Угловое распределение восстанавливалось из измерения углов и энергий заряженных продуктов распада. Эксперимент проводился на вторичном пучке 6Не фрагмент-сепаратора АКУЛИНА-2 Лаборатории Ядерных Реакций им. Г.Н. Флерова в конце 2024 года. В настоящее время проводится модельный анализ полученных данных. В докладе представлены предварительные результаты эксперимента.- M.S. Golovkov et al., «Observation of a positive-parity wave in the low-energy spectrum of 7 He» Phys. Rev. C. 109 (2024), L061602
Speaker: Андрей Безбах (ОИЯИ) -
57
ANCs of the 11B+p overlap from the p-transfer reactions with d and 3He projectiles
The structure of excited states and even their energy spectrum for the 12C nucleus, oddly enough, is still the subject of consideration [1, 2]. The problem is that a number of poorly identified broad resonance states lying above the Hoyle state (7.65 MeV, 0+) and having an α-cluster structure overlap significantly. Against their background there are a number of levels lying below the nucleon separation thresholds and having pronounced signs of a single-particle structure. However, their spectroscopic factors determined from nucleon transfer reactions (mainly performed in the 70s-90s) demonstrate a spread of values reaching a factor of 3 or more - see for example [3]. At the same time such reliable information is necessary not only for understanding the structure of the 12C nucleus but also from a nuclear astrophysical point of view due to the enormous role of the 12C nucleus in the pathways of nucleosynthesis and the search for alternative pathways of its formation, for example, the capture of a nucleon by the 11B nucleus [4, 5].
In this paper we present the values of the asymptotic normalization coefficients (ANC) of proton coupling from the analysis of suitable literature experimental differential cross sections (DS) of reactions in proton transfer reactions on beams of the lightest ions (including the DS we obtained at energies Е3Не = 22.3 and 32.5 MeV) leading to such states. The calculations were performed within the framework of the modified DWBA [6] using the DWUCK5 [7] and Fresco [8] codes taking into account the deuteron breakup in the reactions (d,p) and (p,d). The obtained ANC values were compared with previously available data [9] and new values were obtained for the states E* = 10.84 (1-), 11.83 (2-) and 14.08 (4+) MeV where these values were not determined earlier. The values of the squares of the ANC for the 12C states, obtained from the analysis of the reactions (d,n), (3He,d) and reverse reactions for the ground state (0+) and the 4.44 MeV state (2+) where the transfer process is non-peripheral due to the tight coupling of these states differ by ~ 1.5 times. For the remaining states up to the proton separation energy (εp= 15.957 MeV) the ANC values turned out to be close to each other.
References:
1. K.L. Laursen et al., Eur. Phys. J. A 52:370 (2016).
2. J.H. Kelley, J.E. Purcell, C.G. Sheu, Nucl. Phys. A 968, 71 (2017).
3. G. H. Neuschaefer et al., Phys.Rev. C28, 1594 (1983).
4. L.H. Kavanaugh et al., Astrophys.J., 372, 1 (1991).
5. J.H. Kelley et al., Phys, Rev. C 62, 025803 (2000).
6. S.V. Artemov et al., Eur. Phys. J. A 58:24 (2022).
7. P.D. Kunz, University of Colorado,«Computer code DWUCK5», http://spot.colorado.edu/ kunz/DWBA.html
8. I.J. Thompson FRESCO, Подразделение of Physics, University of Surrey, July 2006, GuildfordGU27XH, England, version FRESCO 2.0, http://www.fresco.org.uk/
9. S.V. Artemov et al., Bull. of the Rus. Acad. of Sci.-Physics V67, 1741 (2003).Speaker: Irina Son (Institute of Nuclear Physics, 100214, Ulughbek, Tashkent, Uzbekistan) -
58
ANC for the 7Li→{6He+p} overlap from the 7Li(d,3He)6He reaction
The 7Li nucleus has a pronounced cluster nature as α+t. However, the one-nucleon component of the ground state is also of interest for a more complete understanding of the structure of the nucleus. Also it may be important in the nuclear-astrophysical processes of the Big Bang, such as the reaction 7Li(3H,4He), which leads to the 7Li nucleus destroy and a change in the 6Li/7Li abundance ratio.
In this work, the values of the spectroscopic factor (SF) and the square of the asymptotic normalization coefficient (ANC) of the p+6He coupling in the 7Li nucleus were estimated using a modified DWBA analysis [1] of the experimental differential cross sections (DC) of the 7Li(d,3He)6He reaction. The DCs of the reaction were extracted from the data of the 7Li+d experiment, carried out on deuteron beam of the U-150M cyclotron of the INP RKaz at energies Ed=14.5 and 25.0 MeV [2,3].
At both energies, the DCSs (which are new data) exhibit clear single-particle features, and the region of the main diffraction maximum is described rather well.
The analysis shows that proton transfer is practically peripheral at 3He emission angles in the region of the main diffraction maximum. The value of the ANC squared, C27Li→6He+p, is estimated at 10.5±2.0 fm-1, which is very little sensitive to the ambiguities of the parameters of the optical model and the binding potential of the proton in the 7Li nucleus. The SF Z=0.89 at “standard” geometry parameters of the 6He+p binding potential.Speaker: Irina Son (Institute of Nuclear Physics, 100214 Tashkent, Uzbekistan) -
59
Новая модель функции отклика детектора с алмазным чувствительным элементом при регистрации DT нейтронов
Представлены результаты анализа распределений амплитуд импульсов, измеренных при регистрации спектра DT-нейтронов детектором с алмазным чувствительным элементом.
Speaker: Иван Вершинин (РФЯЦ-ВНИИЭФ)
-
55
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Татьяна Львовна Каравичева (ИЯИ РАН)-
60
Recent updates of the NeuCBOT program for evaluation of neutron yields and spectra from $(\alpha, n)$ reactions
Consideration of the $(\alpha, n)$ reactions is necessary for conducting precision experiments on detection and study of neutrinos and dark matter particles in modern ultra-low background detectors. As a result, computational tools that facilitate the evaluation of the background caused by the reactions, such as NeuCBOT [1], are emerging. The NeuCBOT utility originally use the TENDL database, obtained with the TALYS software package, to calculate the neutron yield and spectrum. However, using this approach for the light nuclides, the output $(\alpha, n)$ yields are often higher than those reported in literature and the spectra are likely to be distorted [2–3].
The NeuCBOT utility has been upgraded by adding an ability to use new input data obtained from the JENDL [4] database. Its advantage is that it contains evaluated experimental data for light isotopes. Consequently, a general algorithm for calculating the kinematics of the reactions and data processing for subsequent use within the NeuCBOT utility were created. Neutron yields and neutron spectra for $(\alpha, n)$ reactions based on JENDL data can be obtained now, including cases for individual channels of the reactions when the final nucleus is in an excited or ground state. This new option is available for the following target nuclei: $^{6-7}$Li, $^{9}$Be, $^{10-11}$B, $^{12-13}$C, $^{14-15}$N, $^{17-18}$O, $^{19}$F, $^{23}$Na. Also a cross section of the $^{13}$C$(\alpha, n)^{16}$O reaction measured by S. Harissopulos [5] and revised by P. Mohr [6] were implemented into NeuCBOT. A comparison of the neutron yields obtained by the following programs: NeuCBOT (separately for TENDL, JENDL and P. Mohr data), SaG4n, NEDIS, SOURCES, was made.
Another important part of the update is related to the release of web (online) version of NeuCBOT which makes usage of the utility more user friendly.References:
1. S. Westerdale et al., NIM A 875, 57–64 (2017).
2. M.B. Gromov et al., Nuclear Physics 86(2), 139691 (2023).
3. D. Cano-Ott et al., 'White paper on $(\alpha, n)$ neutron yield calculations'.
4. O. Iwamoto et al., JNST, 60(1), 1–60. (2023).
5. S. Harissopulos et. al., Phys. Rev. C 72, 062801(R) (2005).
6. P. Mohr, Phys. Rev. C 97, 064613 (2018).Key words:
(alpha,n) reactions, ultra-low background detectors, dark matter, WIMP, neutrino, background evaluation, neutron, JENDL, TALYS, TENDL, NeuCBOT.Speaker: Ivan Goncharenko (SINP MSU, Moscow, Russia) -
61
Компоненты физического эксперимента: ФЭУ, SiPM, детекторы, электроника
В последние годы возникли сложности с оснащением экспериментальных установок в связи с ограничением поставок из-за рубежа. В своём докладе мы расскажем о:
- Производимых нами компонентах;
- Возможностях разработки новых решений под заказ;
- О доступных к поставке компонентах и их характеристиках для построения комплексных установок, включая:
- Кремниевые детекторы;
- Рентгеновские детекторы Amptek;
- Сцинтиляционные материалы и сборки;
- ФЭУ - фотоэлектронные умножители;
- Si-ФЭУ - кремниевые фотоумножители;
- Поупроводниковые детекторы: CZT, ОЧГ;
- Источники питания (LV и HV);
- Сопутствующая электроника: делители, предусилители;
- Многоканальные анализаторы;
- Производство под заказ;
Speaker: Иван Бредихин (ООО Gammatech) -
62
Установка для прецизионного измерения масс тяжелейших ядер. Современное состояние дел.
В Лаборатории Ядерных Реакций имени Флерова (Дубна) создается установка для прецизионного измерения масс тяжелейших ядер, синтезируемых в реакциях слияния с тяжелыми ионами [1]. Установка состоит из криогенной газовой ячейки охлаждения ионов и много отражательного время пролетного масс спектрометра. Использование установки планируется совместно с газонаполненным сепаратором ГРАНД [2], с помощью которого будет осуществляться предварительная сепарация продуктов реакций слияния. В отличие от большинства существующих спектрометров подобного типа, в представленном проекте используется несколько модулей, предназначенных специально для работы с редкими событиями. Селектор зарядовых состояний позволяет работать одновременно с зарядами ионов как 1+, так и 2+, а квадрупольный фильтр масс выделяет из пучка ионов только целевую массу, которая затем анализируется время пролетным спектрометром. Проектное разрешение установки - 2106, быстродействие – 100 мс. Дано описание установки и принципов работы ее основных частей. С целью отработки основных узлов спектрометра создается стенд, на котором будут отлажены такие узлы, как калибровочный источник ионов на основе фрагментов фуллеренов, квадрупольные газонаполненные переключатели, квадрупольные газонаполненные радиочастотные системы транспорта, квадрупольные фильтры масс. Такой стенд может быть использован как самостоятельный прибор в экспериментах на пучках тяжелых ионов. Рассмотрен пример эксперимента по массовой идентификации тяжелых ядер, синтезируемых в реакциях слияния. Представлено текущее состояние проекта в целом.
Литература:
1. M.I.Yavor et al., Project of a Time-of-flight Multi-reflection Mass Spectrometer for the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in JINR. Journal of Analytical Chemistry, 2023, Vol. 79, No. 14, pp. 1–8.
2. A.V.Yeremin et al., GRAND Universal Gas-Filled Separator: First Experimental Results. Physics of Particles and Nuclei Letters, 2024, Vol. 21, No. 3, pp. 518–525.Speaker: Александр Родин (ОИЯИ) -
63
Mass calibration of the HPGe detector from nuGeN experiment with dissolved uranium calibration source.
The aim of the work was to estimate the mass of the HPGe detector similar to one from nuGeN experiment and compare it with the manufacturer’s specification. To achieve such purpose measurements with a calibration uranium source were carried out on a low-background experimental setup. In the next place mass estimation were realized by Monte-Carlo simulation made in Geant4.10. Main advantage of this method is the usage of uranium source and its very well-known mass activity of U-238 equal to 12400 Bq/g. Analysis of the data provided by both Geant4 simulations and experimental measurements were compared. As the result of the work good agreement of HPGe’s masses have been gotten.
Another valuable result is the fact that the usage of dissolved uranium calibration sources with the known mass may find wide implementation for the mass calibration of HPGe detectors and tests of MC simulations.Speaker: Temirlan Khussainov (JINR / INP) -
64
Double-hit experimental approach in studies of the multibody decays of heavy nuclei
In our previous publications [1–3], a very specific effect, unknown in the past, was discussed, namely a break-up of the fission fragment while it passes through a solid-state foil. The fraction of the fragments which undergo the break-up is supposed to be born in the shape isomer states. The bulk of the results were obtained in the frame of the so-called missing mass experimental method when only one of two partners of the break-up is detected by the spectrometer. The difference between the total mass of the detected fragments and the mass of the mother system serves a sign of at least ternary decay. Alternative, so called” double-hit” approach lets obtain more direct information about the process. By definition, the double-hit registration approach means that two fragments were detected in the same PIN diode during one registration gate of 200 ns length. If a minimum time interval between their time stamps is less than 30 ns a pile-up of the signals take place. Restoring original signals from pile-up is discussed.
References
1. D. V. Kamanin, Yu. V. Pyatkov, A. N. Solodov et al., Proc. of the 29th Inter. Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclei, Dubna, Russia, 29 May-02 June, 2023. Dubna: JINR, 2023. 263 p.
2. D. V. Kamanin, Yu. V. Pyatkov, A. N. Solodov et al., Proc. of the 28th Inter. Nuclear Physics Conference (INPC 2022), Cape Town, South Africa, 11–16 September 2022. Journal of Phys: Conf. Series 2586, 2023, art. 012043.
3. A. O. Strekalovsky, D. V. Kamanin, Yu. V. Pyatkov et al., Bull. of the Russian Academy of Scien.: Phys. 84 (4), 469 (2020)Speaker: Zoya Goryainova (JINR)
-
60
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Experiment 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Vasilii Mochalov (NRC "Kurchatov Institute" - IHEP, Protvino)-
65
$K^*(892)$ meson production in heavy and small collision systems at $\sqrt{s_{NN}} = 200$ GeV
The quark-gluon plasma (QGP) [1] is a state of matter that exists at extremely high temperatures, exceeding T > 170 MeV [2], and at energy densities greater than ~1 GeV/fm³ [3]. This deconfined phase of quarks and gluons can be created during the phase transition of hadronic matter, which occurs in collisions of ultrarelativistic heavy ions [4, 5].
The QGP exhibits several distinctive experimental signatures, such as strangeness enhancement [6] and jet quenching [7]. These phenomena can be effectively studied through the production of the $K^*(892)$ meson [8], a resonance containing a strange quark. A comparison of $K^*(892)$ meson production in ultrarelativistic nucleus-nucleus and proton-proton (p+p) collisions, quantitatively expressed through nuclear modification factors, provides valuable insight into the properties of the QGP.
In addition to studies in heavy-ion collisions, investigating $K^*(892)$ production in smaller systems is particularly important for exploring the minimum conditions required for QGP formation. Since signatures like strangeness enhancement and jet quenching are expected to manifest even in light systems if QGP is created, measurements of $K^*(892)$ meson production offer a sensitive probe for such effects.
The present study focuses on measurements of the $K^*(892)$ meson invariant transverse momentum ($p_T$) spectra and the corresponding nuclear modification factors as functions of $p_T$ in both heavy and light collision systems at the energy of $\sqrt{s_{NN}} = 200$ GeV/c.
The results of the work can be expanded for use in the MPD experiment of the NICA project. The authors acknowledge support from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, state assignment for fundamental research (code FSEG-2025-0009).
- Ding H T, Karsch F and Mukherjee S, Int. J. Mod. Phys. E 24, 1530007 (2015).
- A. Adare et al., Phys. Rev. Lett. 104, 132301 (2010).
- F. Karsch, E. Laermann and A. Peikert, Phys. Lett. B 478, 447 (2000).
- M. Gyulassy and L. McLerran, Nucl. Phys. A 750, 30 (2005).
- E. V. Shuryak, Nucl. Phys. A 750, 64 (2005).
- Redlich, K., Nuclear Physics A 698, 1-4 (2002).
- Gyulassy M and Wang X N, Nucl. Phys. B 420, 583–614 (1994).
- Navas, S. et al., Phys. Rev. D 110, 3 (2025).
Speaker: Sergei Antsupov (Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU)) -
66
Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the beam kinetic energy of 3.8A GeV with BM@N
In the collision of heavy ions hot and dense strongly interacting matter is produced.
Anisotropy of the created in the collision particles is sensitive to the properties of the matter formed at the impact.
In the early 2023 Baryonic Matter at Nuclotron (BM@N) conducted its first physical run collecting more than 500 million collisions of Xe beam with the kinetic energy of 3.8A GeV on CsI target.
We present the first results on the azimuthal anisotropic flow of protons for the recent physical run of BM@N.
We compare the measured directed flow of protons to the theoretical calculations of Monte-Carlo models as well as the measurements from other experiments.Speaker: Mikhail Mamaev (JINR, NRNU MEPhI, INR RAS) -
67
Directed flow of $\Lambda$ hyperons in Xe+Cs(I) collisions at 3.8 AGeV in the BM@N experiment
The study of nuclear matter properties in the region of maximum baryonic density is one of the main goals of beam energy scanning programs in relativistic heavy ion collisions with energies $\sqrt{s_{NN}}$~= 2.4-11~GeV. Among the important observables in this study is the momentum anisotropy with respect to the reaction plane, characterized by anisotropic transverse flow coefficients.
In this work, we discuss the first results of directed flow of $\Lambda$ hyperons measurements for Xe+Cs(I) collisions at $E_{kin}$=3.8 AGeV in the BM@N experiment.
Speaker: Valerii Troshin (JINR, NRNU MEPhI) -
68
The first results for directed flow of deuterons in 3.8A GeV Xe+CsI collisions at the BM@N experiment
At the beam energies of several GeV per projectile nucleon dense baryonic matter is produced similar to one observed in astrophysical phenomena as neutron star mergers. The initial asymmetry of the energy distribution in the overlap region, governed by the properties of the created matter, evolves into momentum anisotropy of the final-state particles. The coefficients of the Fourier decomposition of the azimuthal distribution of the produced in the collision particles $v_n$ thus are a sensitive probe of these properties.
In 2022-2023 BM@N, the first experiment on the NICA accelerator complex in JINR, Russia, finished its first physical run collecting more than 500M Xe+CsI collisions at $E_{kin} =3.8A$ GeV. We present the first results on the analysis of the directed flow ($v_1$) of deuterons, and compare obtained $v_1$ with existing world data. The scaling of the directed flow on mass number for light nuclei is discussed.Speaker: Irina Zhavoronkova (JINR, NRNU MEPhI) -
69
Relativistic nuclear physics at the LHEP accelerator complex
Methodological problems of investigations in the field of relativistic nuclear physics are considered. Basic notions and principles underlying the construction of scientific description of physical phenomena in the field of relativistic physics are discussed. Definitions of variables used for description of relativistic nuclear collisions are given. Various definitions of cumulative and collective processes of nuclei interaction are discussed. The role and significance of the Lobachevsky geometry in description of relativistic phenomena, in particular, particle production, are presented. The notion “elementary particle” is discussed. The new phenomenon – directed nuclear radiation- is presented. The problems of goal setting and optimization of experiments planned at the accelerator complex NICA are addressed.
Speaker: Anton Baldin (LHEP JINR) -
70
Production of Lambda hyperons in 4.0 AGeV and 4.5 AGeV carbon-nucleus interactions at the Nuclotron
The study of relativistic heavy ion collisions provides a unique opportunity to explore nuclear matter under extreme conditions of density and temperature. The optimal energy range for nuclear matter compression is close to 5 AGeV. The Nuclotron at the NICA accelerator complex provides a wide range of ion beams in the energy range $\sqrt{s_{NN}}=2.3 - 3.5$ GeV. These energies are high enough for the production of strange mesons and (multi)-strange hyperons in nucleus-nucleus collisions close to the kinematic threshold [1,2].
Lambda hyperons containing a single strange quark are important observables in the study of strangeness because their kinematic characteristics carry information about the dynamics of the system, the degree of thermalisation and the role of secondary interactions.
The BM@N experiment is the first fixed-target experiment operated at the NICA accelerating complex.
The BM@N experiment collected data on carbon, argon, krypton and xenon
beams with different solid targets.
This paper presents results of the Lambda hyperon production in
carbon-nucleus interactions (CN run) at the 4.0 and 4.5~AGeV beam kinetic energies with the different solid targets (${C , Al, Cu, Pb}$). Transverse momentum, rapidity spectra and yields of the Lambda hyperons are measured.
The results are compared with theoretical models predictions and with the experimental data on carbon-carbon interactions (Propane Chamber).- Exploring strongly interacting matter at high densities - NICA White Paper, Eur.Phys.J. A52 (2016).
- BM@N Conceptual Design Report: \url{http://nica.jinr.ru/files/BM@N/BMN_CDR.pdf}
Speaker: Ksenia Alishina (JINR)
-
65
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Theory 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Вадим Монахов (Санкт-Петербургский государственный университет)-
71
Heavy and light mesons in the frame of the quark model with separable interaction kernel
This work is devoted to the study of the meson properties in the frame of the quark model with separable interaction kernel. We start from the Bethe-Salpeter equation chosing the interaction kernel as $D(q-p) = D_0 \varphi(q^2) \varphi (p^2)$ and define the meson vertex function in Gaussian form $\varphi(q^2)= e^{-q^2/\Lambda_H^2}$. The parameter $\Lambda_H$ characterizes the finite size of the meson. To describe the meson properties we fix the model parameters using the meson electromagnetic, leptonic decay constants.
As an application of the model, the $\gamma^* P \longrightarrow \gamma$ transition formfactors and $V \rightarrow P \gamma$ radiative decays are considered, where $P$ denotes pseudoscalar mesons like $\pi$, $\eta_c$ and $\eta_b$ and $V$ denoted vector mesons like $\rho, J/\psi, \Upsilon$. Comparisons of our results with other calculations are performed. Also the hadronic interactions of charm and bottom mesons were considered as a base of further study $J/\psi$ and $\Upsilon$ production and absorption in hot and dense hadronic matter.
Speaker: Alexandra Friesen (Joint Institute for Nuclear Research) -
72
Properties of hadrons scattering at super-high (cosmic) energies
Unitarity saturation effects [1] are analysed at energies above the LHC using of different hadron-hadron elastic scattering as an example.
A new Regge-eikonal model of hadron interactions [2] was developed taking into account the generalized structure of hadrons and based on the analyticity of the scattering amplitude, which made it possible to describe quantitatively the existence of experimental data of elastic hadron scattering in the energy range of LHC [3] and in a wide energy region $\sqrt{s}=3.6 -13000$ GeV from a unified point of view. A unified quantitative description of various hadron reactions and a description of differential cross sections and the spin-correlation parameter for interactions were obtained [4]. This allowed us to substantiate the obtained hadron structure from the generalized parton distributions we used.
The impact parameter representation of the eikonal and scattering amplitude allow us to analyze the unitarity saturation effects at super high energies including the energy above the LHC.
As it is very likely that the unitarisation will play an important role, one should not assume that the slopes $B(s, t)$ and $\rho(s, t)$ are independent of $t$, and their exact behavior with $t$ is model dependent. The predictions for $\sigma_{tot}(s)$ at superhigh energies are presented.- O.V. Selyugin, J.-R. Cudell, Phys.Rev.Lett.102:032003 (2009).
- O.V. Selyugin, Phys. Lett., {\bf B 797} 134870 (2019).
- O.V. Selyugin, Eur.Phys.J. {\bf C 84 } 649 (2024).
- O.V. Selyugin, Phys.Rev. {\bf D 110} 114028 (2024). \
Эффекты насыщения унитарности [1] анализируются при энергиях выше чем на БАК на основе различных адронных реакций упругого адронного рассеяния. Новая Редже-эйкональная модель адронного взаимодействия была развита [2], учитывающая обобщенную структуру адронов и на основе аналитических свойств амплитуды рассеяния, что позволило количественно описать существующие экспериментальные данные по упругому рассеянию адронов при энергиях БАК [3] и в широкой энергетической области с учетом всех наборов экспериментальных данных по упругому $pp$ и $p\bar{p}$ рассеянию, полученных при $\sqrt{s} = 3.6$ ГэВ до $\sqrt{s} = 13$ ТэВ с единой точки зрения.
Было получено объединенное количественное описание дифференциальных сечений и спин-корреляционного параметра в широкой области переданного импульса [4].
Полученные в преставлении прицельного параметра эйкональная фаза и амплитуда рассеяния позволили проанализировать эффекты насыщения унитарного предела при сверх высоких энергиях, включая энергии существенно больше энергий БАК.
Показано что унитаризация играет важную роль и нельзя преполагать что наклоны вещественной и мнимой части амплитуды рассеяния $B(s, t)$ и велечины $\rho(s, t)$ не зависят от $t$, но их поведение по $t$ является модельно зависимым. Даны соответствующие предсказания по величине полных сечений $\sigma_{tot}(s)$ при сверх высоких энергиях.Speaker: Oleg Selyugin (Joint Institute for Nuclear Research) -
73
Hidden-charm strong decays of the charmonium-like states $Y(4230)$ and $X2(4014)$
We have investigated the hidden-charm strong decays of the exotic charmonium-like state $Y(4230)$ [1] and the spin-2 partner $X2(4014)$ of the charmonium-like state $X(3872)$ [2], recently reported by the BES-III and BELLE collaborations. The exotic states $Y$ and $X2$ have been interpreted as four-quark states with molecular-type interpolating currents in the framework of the covariant confined quark model. We evaluate the hidden-charm decay width of $Y$ into a vector and a scalar, with the latter decaying subsequently to a pair of charged pseudoscalar states. The strong decay mode $Y\to\pi^{+} \pi^{-}$ has been studied by involving the both scalar resonances $f_0(500)$ and $f_0(980)$, considered quark-antiquark states, while the mode $Y \to K^{+} K^{-}$ - via $f_0(980)$. We have calculated the partial widths of the related strong decays and the branching ratio ${\it B}(Y \to K^{+} K^{-}) / {\it B}(Y \to \pi^{+} \pi^{-})$, recently determined by the BES-III Collaboration. The estimated branching ratio and calculated partial strong decay widths are in reasonable agreement with the latest experimental data [1]. We have also considered the decay widths of $X_2$ on the level of two-petal quark loops. The partial widths of the strong decays $X_2\!\to\!\omega \, J/\Psi$ and $X_2\!\to\!\rho^0 \, J/\Psi$ have been calculated and the related branching ratio has been analyzed. In the comparison of our approach to the recent $D^{*} \, \bar{D}^{*}$ molecular scenario, we have shown the explicit appearance of the threshold effect in the latter models [2]. Our theoretical results might be checked by future experiments.
[1]. Gurjav Ganbold and M. A. Ivanov,
Strong decays of charmonium-like state $Y(4230)$,
Eur. Phys. J. A {\bf 60:13} (2024).[2]. Gurjav Ganbold and M. A. Ivanov,
Hidden-charm strong decays of the spin-2 partner of $X(3872)$,
Phys. Rev. D {\bf 111}, 014007 (2025).Speaker: Gurjav Ganbold (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia) -
74
О моделировании взаимодействии квантового электромагнитного поля c протяженными материальными объектами.
Предложенный К. Симанзиком метод построения перенормируемых моделей
квантовой теории поля в неоднородном пространстве-времени [1] предлагается использовать при модификации существующих моделей физики конденсированного состояния для описания макроэффектов электромагнитных квантовых флуктуаций вакуума и взаимодействия фотонов с веществом в процессах рассеяния на материальных объектах и образования с ними связанных состояний. В качестве базисных предположений при построении моделей используются основные принципы квантовой электродинамики: локальность, перенормируемость и калибровочная инвариантность. Это существенно ограничивает допустимое число параметров в лагранжиане модели, который получается добавкой, описывающей взаимодействие фотонов с веществом, к стандартному лагранжиану теории Максвелла. Рассматриваются возможности использования этих подходов для теоретических исследований физики поверхностей, а также для построения моделей взаимодействия электромагнитного поля с материальными объектами каплеобразной формы в теории ядра и статистической физике.ЛИТЕРАТУРА
- К. Symanzik, Nucl. Phys. B 190, 1–44 (1981).
Speaker: Юрий Письмак (Санкт-Петербургский государственный университет) -
75
Фрагментация ядер при промежуточных энергиях в модели DCM-QGSM-SMM
Одним из активно развиваемых направлений физики тяжелых ионов является создание моделей ядро-ядерных взаимодействий. В настоящее время поддерживается и продолжает развиваться модель DCM-QGSM-SMM [1], основанная на Дубненской каскадной модели (DCM-QGSM) и статистической модели мультифрагментации (SMM). Модель используется в анализе данных ядро-ядерных взаимодействий в рамках эксперимента NICA в широком диапазоне энергий. Сравнение с экспериментальными данными, полученными на детекторе ФРАГМ [2] показало, что механизм SMM претендует на хорошее описание процессов фрагментации ядер. В докладе рассматривается применимость DCM-QGSM-SMM к описанию процессов фрагментации ядер. Приводится сравнение результатов модели DCM-QGSM-SMM с данными других экспериментов и с предсказаниями моделей, используемых в этой области энергий [3].
Литература:
1. M. Baznat et al. Phys. Part. Nucl. Lett. 17, 303 (2020).
2. B. M. Abramov et al. Phys. Atom. Nucl. 85, № 9, 1541 (2022).
3. А. А. Kulikovskya et al. Phys. Atom. Nucl. 85, № 5, 466 (2022).Speaker: Анна Куликовская (Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") -
76
Higher-order strongly intensive quantities for rapidity correlations in string models
The strongly intensive observables [1] were intensively studied in the model with quark-gluon strings acting as sources in case of multiplicities in two acceptance windows separated in rapidity [2,3]. It was shown to be an excellent probe of string fragmentation features as well as a signal of collectivity achieved by a number of strings. Namely, in this case, through the weight factors the observable becomes dependent on collision conditions and, strictly speaking, cannot be considered anymore as a strongly intensive variable. In this talk a way to get around this drawback is discussed. Moreover, recently the procedure that allows us to construct new strongly intensive observables using higher-order moments was proposed [4]. In this talk we apply this procedure for joint multiplicity fluctuations.For comparison, the results of the calculation of the considered observable with the Monte Carlo event generators are also presented.
The authors acknowledge Saint-Petersburg State University for a research project 103821868.References[1] M.I. Gorenstein, M. Gazdzicki, Phys. Rev. C 84, 014904 (2011).
[2] E. Andronov, Theor. Math. Phys. 185, 1383 (2015).
[3] E. Andronov, V. Vechernin, Eur. Phys. J. A 55, 14 (2019).
[4] W. Broniowski, A. Olszewski, Phys. Rev. C 95, 064910 (2017).Speaker: Evgeny Andronov (Saint Petersburg State University)
-
71
-
7. Nuclear medicine РХО ПИБ (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
РХО ПИБ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Sergey Taskaev (Budker Institute of Nuclear Physics)-
77
Изучение воздействия высокоэнергетических электронов на клетки крови и опухоли в модельных условиях
Одним из наиболее перспективных методов лечения рака молочной железы (РМЖ) является интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ). При ИОЛТ реализуется локальное воздействие на опухоль быстрых, высокой энергии электронов бетатрона. Формирование в области опухоли большого количества микрососудов кровеносной системы повышает вероятность воздействие ионизирующего излучения (ИОИ) именно на клетки крови, например, эритроциты. В связи с этим, изучение воздействия ИОИ на морфофункциональные свойства эритроцитов (морфология, состояние плазматической мембрана или способность гемоглобина переносить газы) может коррелировать с эффективностью ИОЛТ за счет как гемолиза, так и образования экзосом.
Объектами исследования служили образцы венозной крови пациентов Якутского республиканского онкологического диспансера с диагнозом РМЖ, облученные поэтапно электронным излучением (суммарная доза 150 Гр) на основе малогабаритного бетатрона КМБ-8 (ТПУ, г. Томск). В исследовании использовали мазки крови, морфологию эритроцитов в которых анализировали с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Установлено, что в ходе фракционного облучения при ИОЛТ количество измененных форм эритроцитов и их и их процентное соотношение увеличиваются. Кроме того, обнаруженные на поверхности эритроцитов наноразмерные структуры (НРС), размеры которых сопоставимы с размерами вирусов и экзосом сохраняются, и в плазме они не возникают в ходе облучения. В работе [1] обсуждались версии о том, что НРС, возникающие в плазме при лучевой терапии пациентов с диагнозом рак шейки матки, могут быть либо экзососами, выделенными эритроцитами, либо раковыми клетками под воздействием ИОИ. Вероятно, что при воздействии ИОИ на клетки опухоли могут быть выделены экзосомы, количество которых зависит от размера опухоли, ее радиорезистентности, а в случае применения ИОЛТ от объема остатков опухоли после его удаления. Таким образом, по количеству НРС можно судить как об эффективности ИОЛТ, так и возможных последствиях циркуляции в крови экзосом – рецидива и метастазирования опухоли.
Полученные данные могут быть полезны для разработки новых подходов в разработке методов защиты от ионизирующего излучения и в повышении качества радиотерапии, а также для развития производства отечественного оборудования для ИОЛТ на основе малогабаритных бетатронов – источников электронных пучков.- Mamaeva S.N., Kononova I.V. et al. «Determination of Blood Parameters using Scanning Electron Microscope as a Prototype Model for Evaluating the Effectiveness of Radiation Therapy for Cervical Cancer» International Journal of Biomedicine. 2021. V. 11(1), p.p. 32−38.
Speaker: Саргылана Мамаева (Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Якутск, Россия) -
78
Оценка поглощённых доз с использованием воксельной модели животного-опухоленосителя
Для обеспечения задачи практического внедрения клинически значимых методик оценки эффективности лучевой терапии крайне важны высокоточные расчёты распределения доз на этапе предклинических исследований. Такие расчёты служат основой для последующего трансфера технологий в клинику, позволяя заранее протестировать различные режимы облучения и оценить их влияние на биологические органы и ткани. Одним из ключевых инструментов этого процесса предлагается создание эквивалентной воксельной модели лабораторного животного-опухоленосителя с последующим использованием реализации моделирования взаимодействия ионизирующих излучений с тканями методом Монте-Карло.
В рамках настоящего исследования в качестве исходных данных использовались томографические изображения (КТ и, при необходимости, МРТ) модельных животных, позволяющие сформировать трёхмерную воксельную сетку с учётом реальной анатомической структуры объекта. Предварительная обработка и преобразование файлов в формат, совместимый с расчётной средой Geant4, осуществлялись поэтапно: сначала на языке Python был реализован модуль автоматизированного чтения (с помощью библиотеки pydicom) и нормализации DICOM-данных, затем для каждого вокселя определялись соответствующие показатели плотности и материала (по числам Хаунсфилда), после чего результирующая модель сериализовалась в бинарный файл с использованием библиотеки Protocol Buffers (protobuf).
Формат воксельной модели предоставляет возможность гибко выбирать разрешение (размер вокселя) в зависимости от задач расчёта. При необходимости получить наиболее точные данные об анатомии (например, для исследования костных структур или точного расположения опухоли) применялось более мелкое воксельное разбиение (0,5 мм), тогда как в сценариях, где приоритетной является скорость моделирования, использовались более крупные воксели (2,0 мм) для сокращения вычислительной нагрузки.
Расчёт доз и траекторий частиц производился в универсальной среде моделирования Geant4 [1], которая при помощи специальных классов собственной разработки загружала подготовленную воксельную модель, извлекая из неё информацию о материале и плотности каждого элемента сетки. Физические процессы взаимодействия описывались комбинацией стандартных и дополнительно подключаемых физических списков, соответствующих типу изучаемого излучения. Дополнительно была предусмотрена возможность учёта относительной биологической эффективности (ОБЭ) для разных видов ионизирующего излучения, включая облучение быстрыми нейтронами, причём реализация процедуры расчёта ОБЭ интегрирована с GPU-модулем (CUDA) на серверной стороне.
Формируемая дозиметрическая информация послужит основанием для дальнейшей оценки радиобиологической эффективности облучения и оптимизации соответствующих протоколов в условиях предклинических исследований.
Представленная методика ориентирована на широкий спектр исследований, включая разработку экспериментальных протоколов для отечественного комплекса нейтронной терапии [2], углеродной терапии [3], модернизации подходов протонной терапии [4]. В перспективе полученные решения могут быть тиражированы для применения в клинической практике, что содействует трансферу передовых медицинских технологий и повышению эффективности лучевой терапии злокачественных новообразований.- Agostineli S. et al., Nucl. Instr. and Meth. A 506(3) 250-303 (2003)
- Мардынский Ю.С. и соавт., Вестник Российской Академии Наук 94(1) 80-86 (2024)
- Solovev A.N. et al., Nanobiotechnology Reports 18(4) 606-609 (2023)
- Lemaeva A. et al., Clinical and Translational Radiation Oncology 48 100814 (2024)
Speaker: Яна Кизилова (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России) -
79
Расчет формы болюса в системе планирования ионной лучевой терапии
Лучевая терапия представляет собой метод лечения онкологических заболеваний, который сочетает в себе высокую точность воздействия и минимизацию побочных эффектов. Этот подход основан на использовании заряженных частиц — фотонов, электронов, протонов и ионов, которые проникают глубоко в ткани организма и разрушают опухолевые клетки, практически не затрагивая здоровые ткани. В отличие от традиционной лучевой терапии, где применяются фотоны рентгеновского излучения, ионная и протонная терапия позволяет более точно доставлять дозу непосредственно к опухоли благодаря уникальному свойству пика Брэгга.
Одна из наиболее важных проблем в ионной лучевой терапии это создание конформного дозового поля. Поскольку опухоль имеет весьма нерегулярную форму, самой первой задачей при обеспечении конформности является формирование дозового поля по дистальной (задней) стенке опухоли. Эта задача решается методом компенсации пробегов ионов в пациенте для чего используется болюс. Типично болюсы имеют сложную, нерегулярную форму, которая является индивидуальной для каждого пациента. Процедура расчета формы болюса является обязательным компонентов любой системы планирования лучевой терапии.В докладе представлен метод расчёта формы болюса в иной лучевой терапии для всех типов ионов и для любой среды. Данный метод реализован как компонента системы планирования для создаваемого в НИЦ «Курчатовский Институт» - ИФВЭ центра ионной лучевой терапии.Литература
1.Клёнов Г И, Хорошков В С "Адронная лучевая терапия: история, статус, перспективы" (2016).
2. W Schneider et al, Phys. Med. Biol. 45 (2000), 459.
3. Report on G4-Med, a Geant4 benchmarking system for medical physics applications developed by the Geant4 Medical Simulation Benchmarking Group.Speaker: Mr Андрей Ларионов (Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» - Институт физики высоких энергий им. А.А. Логунова) -
80
Оценка поглощенной дозы при наличии имплантов в лучевой терапии полости рта
В современной лучевой гамма - терапии одной из сложных задач является облучение полости рта. Наличие имплантатов, очевидно, только усложняет этот процесс, искажая дозное поле. При этом допустимые отклонения дозы составляют не более 3%. Проведение оценки изменений дозы внутреннего рассеяния и поглощения гамма-излучения в полости рта при наличии имплантатов: коронок и штифтов проводилось на линейном ускорителе Varian Halcyon. Характеристики пучка: 6 МэВ, расстояние до изоцентра 100 см, отпускаемая доза 200 MU или 2 Гр. В качестве облучаемого объекта выступал тканеэквивалентый фантом языка из твердой воды со средней электронной плотностью 0 HU (в единицах Хаунсфилда). Дополнительно использовался стоматологический фантом челюсти человека с электронной плотностью зубов 1600 HU, включавшим болюс, имитирующий щеку со средней электронной плотностью -4 HU, а также металлические коронки из стали (толщина стенки составляет 0.3 мм, а электронная плотность - 8000 HU) и нержавеющие и латунные внутриканальные штифты.
Облучаемый фантом с регулируемым наклоном анализировался с помощью компьютерной томографии для дальнейшей подготовки плана лучевой терапии. Получены оценки поглощенных доз языка с учетом использования имплантатов и проведено сравнение значений в рамках модели колебаний разработанного фантома. Оценка поглощенной дозы определялась с помощью гамма камеры Fc-65E. Отклонение в экспериментальных данных поглощенных доз при облучении фантома без использования имплантатов и с ними составляет менее 1%, а влияние наклона оказывает вклад до 3%.Список литературы
1. Stuchebrov S. G., Miloichikova I. A., Krasnykh A. A. // Journal of Physics: Conference Series. - 2016 - Vol. 732. p. 1-6.
2. Ратнер Т. Г., Лютова Н. А. Клиническая дозиметрия. Теоретические основы и практическое применение. М: Весть, 2006. 267 с.Speaker: Лариса Титова (Воронежский Государственный Университет) -
81
Gamma radiation dose simulation in EGSnrc for in vitro human glial brain tumors
One of the critical steps in planning and assessing the effectiveness of radiation therapy is the accurate calculation of absorbed dose and the modeling of its distribution within biological tissues. Achieving this requires precise simulation methods that account for complex physical interactions and anatomical geometry. The Monte Carlo method is widely recognized for its ability to meet these demands.
In the present work, dose distribution calculations were performed using the EGSnrc Monte Carlo simulation system, chosen for its high accuracy in modeling photon and electron transport in matter. The photon source 60Co was used, with human glial brain tumor samples serving as biologically relevant targets. The simulations incorporated key physical processes such as photoelectric absorption, Compton scattering, and bremsstrahlung. This modeling framework provides a solid basis for assessing dose deposition in radiobiological contexts and emphasizes the value of detailed computational approaches in radiotherapy optimization [3].- Kawrakow, I. EGSnrc Code System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon
Transport. NRCC Report PIRS-701, National Research Council of Canada, Ottawa
(2000); - Rogers, D.W.O., Walters, B.R.B., Kawrakow, I. BEAMnrc Users Manual. NRCC Report
PIRS-0509(A) revL, National Research Council of Canada, Ottawa (2011); - Andrey A. Kim, Gayratulla A. Kulabdullaev et al.. Development of method for in vitro
evaluaton of radiosensitivity of human brain glial tumors. AIP Conf. Proc. 3020, 060001
(2024).
Speaker: Dildora Rasulova (Institute of Nuclear Physics, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 1 Khuroson, Ulugbek, 100214, Tashkent, Uzbekistan) - Kawrakow, I. EGSnrc Code System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon
-
82
Трековый детектор на основе кремниевых пиксельных сенсоров для протонной компьютерной томографии.
В настоящее время, протонная компьютерная томография рассматривается в качестве перспективного метода планирования лечения пациентов в адронной терапии. При этом, основной задачей является определение тормозной способности протона в тканях пациента. Для решения данной задачи в настоящей работе представлена концепция цифрового трекового калориметра на основе кремниевых монолитных активных пиксельных сенсоров. Такой калориметр способен идентифицировать энергии и треки протонов в условиях относительно высокой их множественности. В докладе рассказано о результатах оптимизации конструкции цифрового трекового калориметра и приводятся экспериментально полученные характеристики для установки с кремниевыми пиксельными детекторами. Также приводятся оценки эффективности регистрации протонов с энергиями, используемыми в адронной терапии, получено пространственное разрешение установки и разработан метод определения остаточной энергии протонов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект №23-12-00042, https://rscf.ru/project/23-12-00042/
Speaker: Виталий Петров (Санкт-Петербургский государственный университет)
-
77
-
13:30
Обед
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
70(2013)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Ivan Mitropolsky (Petersburg Nuclear Physics Institute of NRC Kurchatov Institute)-
83
Low-energy spectra of nobelium isotopes: scissors mode in $^{254}$No
The description of low-energy multipole specta in isotopes $^{250-260}$No within fully self-consistent Quasiparticle-Random-Phase-Approximation (QRPA) method [1, 2] with Skyrme forces is briefly discussed [5]. The main attention is paid to nuclei $^{250,252,254}$No, where we have most of the experimental spectroscopic information [3, 4]. The QRPA description of the recent experimental data on low-energy M1 strength in $^{254}$No [6] is provided. The interplay of M1 spin-flip and orbital scissors excitations is discussed. The collectivity of the states is estimated. The interference of spin and orbital degrees of freedom is analyzed.
References:
1. P.-G. Reinhard, B. Schuetrumpf, and J. A. Maruhn, Comp. Phys. Commun. 258, 107603 (2021).
2. A. Repko, J. Kvasil, V.O. Nesterenko and P.-G. Reinhard, arXiv:1510.01248[nucl-th].
3. R.-D. Herzberg and P.T. Greenlees, Prog. Part. Nucl. Phys. 61, 674 (2008).
4. R.-D. Herzberg, arXiv:2309.10468[nucl-ex].
5. V. O. Nesterenko, M.A. Mardyban, R.V. Jolos, P.-G. Reinhard, A. Repko, A. A. Dzhioev, to be published Phys. Rev. C.
6. F.L. Bello Garrote et all, Phys. Lett. B834, 137479 (2022).Speaker: Maria Mardyban (Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research. 141980, Dubna, Moscow region, Russia; Dubna State University. 141982, Dubna, Moscow region, Russia) -
84
Analysis of the properties of low-lying states in N=44 isotopes from $^{70}$Fe to $^{80}$Kr
The occurrence of collective excitations is one of the key and noticeable spectroscopic characteristics of the atomic nucleus. Although the measurement of the B(E2;$2_1 \rightarrow 0_1$) transition probabilities is very useful for studying the evolution of collectivity along isotopic or isotonic chains, a deeper understanding of the collective behavior of a given nucleus can be gained by measuring the lifetimes of higher-lying/high-spin states. The reduced probabilities of B(E2) in an even-even nucleus generally increase with increasing angular momentum within the main rotational or vibrational bands [1]. However, different ratios of the reduced probabilities of E2 transitions between the ground state and collective excitations indicate different types of rotational or vibrational excitations. For example, in the case of a harmonic vibrator, the ratio B(E2;$4_1 \rightarrow 2_1$)/B(E2;$2_1 \rightarrow 0_1$), B42, is expected to be equal to 2.0, while for a symmetric rotator it is 1.43 [2]. The exception is nuclei located near closed shells, where this ratio may be less than unity. Very few cases of nuclei far from closed shells with an anomalously low B42 ratio have been found in the literature [3]. Modern experimental studies have expanded the region of nuclei with an anomalously low B42 ratio. In particular, in the vicinity of the magic isotopes $^{68}$Ni and $^{78}$Ni, such anomaly is observed in the N=44 isotones (for the $^{74}$Zn isotope, the B42 ratio is 0.33) [4]. On the other hand, the study of structural features occurring in nuclei along isotopic or isotonic chains in the shell filling region is also of considerable interest, since different shape evolutions occur here [5, 6].
In the present work, a systematic analysis of the properties of low-lying states in N=44 isotopes from $^{70}$Fe to $^{80}$Kr is presented. This study is a continuation of our analysis of low-lying states in even isotopes $^{70-88}$Ge [7], performed within the framework of the collective quadrupole Hamiltonian [Bohr1975]. However, the inertia parameters and the potential energy surface are calculated based on the relativistic energy density functional (EDF) [8]. Our analysis showed that the calculations performed using the PC-PK1 and NL3 EDFs give very similar results. Using a single set of parameters, it is possible to describe with good accuracy the available experimental data both in Ge isotopes and in isotones with N=44.[1] A. Bohr and B. Mottelson, Nuclear Structure, Vol. II (W. A. Benjamin, New York, 1975).
[2] A. Davydov and G. Filippov, Nucl. Phys. 8, 237 (1958).
[3] R. B. Cakirli, R. F. Casten, J. Jolie, and N. Warr, Phys. Rev. C 70, 047302 (2004).
[4] C. Louchart et al., Phys. Rev. C. 87, 054302 (2013)
[5] K. Heyde, and J. L. Wood, Rev. Mod. Phys. 83, 1467 (2011).
[6] P. E. Garrett, M. Zielińska, and E. Clément, Prog. Part. Nucl. Phys. 124, 103931 (2022).
[7] N. N. Arsenyev, E. V. Mardyban, and T. M. Shneidman Int. J. Mod. Phys. E 33, 2441021 (2024); Phys. Atom. Nucl. 88, 24 (2025).
[8] E. V. Mardyban, E. A. Kolganova, T. M. Shneidman, and R. V. Jolos, Phys. Rev. C 105, 024321 (2022).Speaker: Evgenii Mardyban (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna¸ Russian Federation) -
85
Ядра с четными $A$ вблизи $^{78}$Ni
В наших предыдущих работах, см. [1,2] и ссылки в них, мы подробно исследовали нестабильные ядра вблизи магических областей $^{100}$Sn и $^{132}$Sn (Z=50,N=50) и (Z=50,N=82). В последнее время [3,4] появились экспериментальные данные, относящиеся к области предполагаемой магичности вблизи ядра $^{78}$Ni (Z=28, N=50). В этой связи мы провели расчеты свойств ядер типа $^{78}$Ni+2 квазичастицы сверх остова, а именно, четно-четных ядер $^{80}$Zn, $^{76}$Fe, $^{80}$Ni и $^{76}$Ni, а также нечетно-нечетных ядер $^{78}$Cu, $^{76}$Co, $^{80}$Cu и $^{78}$Co. Расчеты проводились в рамках метода хаотической фазы (RPA), с учетом корреляций в основном состоянии. Были вычислены спектры уровней и вероятности электромагнитных переходов между уровнями. При этом в качестве "остовного" использовалось ядро $^{78}$Ni, магичность которого следует из экспериментальных данных по массам $^{78}$Ni и соседних нечетных ядер. Расчеты свидетельствуют о возможности возникновения изомерии в ряде ядер этой области. Из сравнения с экспериментальными данными по $E2$-переходу $8^+_1\to6^+_1$ в ядре $^{78}$Ni было получено значение эффективного заряда нейтрона $e^n\mbox{(eff)}\approx1$. В то же время экспериментальное значение квадрупольного момента основного состояния ядра $^{78}$Cu, $Q_2(6^-_1)=2(10)|e|$Фм, определено с недостаточной точностью, что не позволяет сделать окончательный вывод о величине $e^p$(eff) в ядрах этой области. Был проведен расчет вероятностей всех возможных разрешенных $\beta^-$-распадов типа Ферми и Гамова-Теллера из ядра $^{78}$Ni и определен период его полураспада.
-
В.И. Исаков, ЯФ {\bf 76}, 881 (2013) [Phys.At.Nucl. {\bf 76}, 828 (2013)].
-
В.И. Исаков, ЯФ {\bf 85}, 196 (2022) [Phys.At.Nucl. {\bf 85}, 250 (2022)].
-
www-ndsiaea.org/amdc/
-
www.nndc.bnl.gov/ensdf/
Speaker: Вадим Исаков (ПИЯФ НИЦ "Курчатовский Институт") -
-
86
Индивидуальные тороидальные состояния в 58Ni
Недавно была рассмотрена тороидальная природа 1- состояний в 58Ni при 6-11 МэВ в рамках полностью самосогласованного приближения хаотических фаз. Особое внимание уделяется состояниям при 6.03, 8.24 и 10.04 МэВ для сферического ядра 58Ni. Эти состояния носят тороидальный характер.
Speaker: Петр Вишневский (ОИЯИ) -
87
Влияние спектроскопических факторов на альфа-распад ядер актинидов.
Работа посвящена изучению альфа-распада чётно-чётных ядер актинидов. Распространённым подходом к описанию альфа-распада является предположение о том, что альфа-частица с некоторой вероятностью образовывается на поверхности ядра. Таким образом, родительское ядро представляет собой суперпозицию моноядра и альфа-кластерной системы. Затем альфа-частица туннелирует через потенциальный барьер. Тяжёлый фрагмент может быть квадрупольно и октупольно деформированным, вследствие чего вероятность образования альфа-частицы зависит от точки на поверхности тяжёлого фрагмента. Кроме того, спектроскопические факторы зависят от орбитального момента альфа-частицы.
В данной работе рассчитана зависимость спектроскопических факторов от углового момента с учётом квадрупольной и октупольной деформации. Квадрупольная деформация приводит к возможности образования альфа-частицы на поверхности ядра в состояниях с чётными угловыми моментами, а октупольная — с нечётными. Для расчёта ширины альфа-распада использовался двухпотенциальный подходв [1,2]. Энергия взаимодействия альфа-частицы и дочернего ядра рассчитывалась в модели двойной ядерной системы [3]. Разработанная модель применена к описанию тонкой структуры альфа-распада в разичных четно-четных изотопах Ra,Th и U.
1. S. A. Gurvitz, Phys. Rev. A 38, 1747 (1988).
2. S. A. Gurvitz, P. B. Semmes, W. Nazarewicz,and T. Vertse, Phys. Rev. A 69, 042705 (2004).
3. T.M. Shneidman, G.G. Adamian, N.V. Antonenko, R.V. Jolos, S.-G. Zhou, Phys.Rev. C 92, 034302 (2015).Speaker: Даниэль Байрамов (Физический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова)
-
83
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Larisa Titova (Voronezh State University)-
88
Calculation of target dependence of the isotope distributions in heavy-ion reactions at energies from 35 to 140 MeV per nucleon in the modified transport-statistical model
In heavy-ion reactions a lot of different isotopes are produced. Different models to predict their cross-sections exist. In this report the results of calculations in the modified transport-statistical approach of isotope distributions of forward-moving fragments for reactions with different projectiles from 18O to 64Ni with energies from 35 to 140 MeV per nucleon on two targets : 181Ta and 9Be,- are discussed. The target dependence (the ratios of isotope distributions for two targets) was studied. In our previous papers we studied this characteristic for reactions with light projectile 18O. It was shown that the hyperbolic shape of their envelope can be explained by the different range of impact parameters involved in reactions on heavy and light targets. In this report the dependence of target ratio on the mass number of the projectile and its energy is studied. The results can be important for better prediction of isotope distributions in fragmentation reactions.
Speaker: Tatiana Mikhailova (FRCCP RAS) -
89
Исследование протон-индуцированных реакций на скандии при энергии пучка 160 МэВ
В представленной работе исследовалось образование радиоактивных нуклидов при облучении мишеней металлического скандия естественного состава протонами с энергией 160 МэВ. В гамма-спектрах облученных мишеней выделены активности 38S, 38,39Cl, 41Ar, 42,43K, 43,44Sc и 45Ti. Сечения изученных реакций оказались равными σ(38S)=6.3×10–3 мбн, σ(38,39Cl)=2.2 и 0.34 мбн, σ(41Ar)=0.76 мбн, σ(42,43K)=8.8 мбн и 1.63 мбн, σ(43,44Sc)=17.6 мбн и 68 мбн, σ(45Ti)=8 мбн. Полученные результаты сравнивались с теоретическими значениями, полученными в рамках статистических моделей ядра с использованием программного кода Taylis1.96 и модели внутриядерного каскада (Intranuclear Cascade, INCL). Полученные результаты обсуждаются.
Speaker: Степан Адоньев (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) -
90
Experimental Investigation of Mass and Total Kinetic Energy Distributions of Fragments Formed in the $^{48}$Ca + $^{208}$Pb Reaction
The $^{48}$Ca + $^{208}$Pb reaction is distinguished by its unique combination of advantages in heavy-ion fusion studies, as both interacting partners are doubly magic nuclei. Moreover, the $^{208}$Pb target provides a cold fusion pathway, while the neutron-rich $^{48}$Ca projectile provides a significant neutron excess, favoring the formation of neutron-rich compound nuclei.
The survival probability of a superheavy nucleus in heavy-ion fusion reactions is directly related to its fission barrier magnitude. In transuranium elements, the fission barrier is predominantly due to shell effects, while the liquid-drop contribution is minimal [1]. The present work aims to investigate the characteristics of the mass-total kinetic energy (M-TKE) distribution of binary reaction products from the $^{48}$Ca + $^{208}$Pb reaction, to conduct a detailed examination of this reaction system, and to obtain an experimental estimate of the fission barriers for $^{256}$No nucleus.
The experiments were carried out using the U400 cyclotron at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Dubna, Russia. Beams of $^{48}$Ca with energies of 208–281 MeV bombarded isotopically enriched thin targets of $^{208}$Pb to populate the $^{256}$No$^*$ compound nucleus at different excitation energies. The binary reaction products were detected in coincidence using the double-arm time-of flight (ToF-ToF) spectrometer CORSET [2]. A detailed analysis of the mass–total kinetic energy distributions of fission-like fragments from the $^{48}$Ca + $^{208}$Pb reaction has been performed, and fission cross sections were obtained. From a combined analysis of the fission cross section and evaporation residue cross sections for 1–3 neutron channels [3–5], the fission barrier of the $^{256}$No nucleus has been estimated.References
[1] M. G. Itkis et al., Phys. Rev. C 65, 044602 (2002).
[2] E. M. Kozulin et al., Instrum. Exp. Tech. 51, 44 (2008).
[3] Yu. Ts. Oganessian et al., Phys. Rev. C 64,054606 (2001).
[4] A. V. Belozerov et al., Eur. Phys. J A 16, 447 (2003).
[5] H. W. G ̈aggeler et al., Nucl. Phys. A 502, 561 (1989).Speaker: Sanila Sathyan (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research) -
91
Исследование упругого рассеяния ядер 40,48Cа на ядрах 197Au
Измерены угловые распределения упругого рассеяния ядер ${}^{40,48}$Ca с энергией 400 МэВ на ядрах ${}^{197}$Au. Эксперименты проводились на циклотроне У-400 Лаборатории ядерных реакций Объединенного Института Ядерных Исследований. Идентификация продуктов ядерной реакции осуществлялась с использованием $ΔE-E$ методики. Экспериментальные данные проанализированы в рамках квазиклассического подхода [1,2]; определен радиус взаимодействия Rint, соответствующий значению характерного угла $θ_{1/4}$ , при котором отношение сечения рассеяния к резерфордовскому $σ/σ_R$ = ¼ [3]. Получено значение расстояния минимального сближения ядер D0, при котором наблюдается резкое отклонение отношения σ/σR от единицы, что объясняется влиянием ядерного поглощения. Величину $D_0$ можно интерпретировать как сумму радиусов двух взаимодействующих ядер. Также определены вероятность поглощения $P_{absorp}$ и параметр диффузности Δ, характеризующий ее зависимость от минимального расстояния D между центрами ядер. Проведены расчеты по оптической модели [4]. Результаты оптической модели согласуются с результатами квазиклассического подхода.
- Yu. Ts. Oganesyan, Yu. E. Penionzhkevich, Nguen Tak An’, D.M. Nadkarni, K. A. Gavrilov, Kim De En, and M. Yussonua, Sov. J. Nucl. Phys. 18, 377 (1973).
- Yu.E. Penionzhkevich, R.G. Kalpakchieva, Light exotic nuclei near the boundary of neutron stability (World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2022).
- S.H. Fricke, P.J. Hatchell, K.W. McVoy, G.R. Satchler, Nuclear Physics A 500, 399 (1989).
- Yu.G. Sobolev, V.V. Samarin, Yu.E. Penionzhkevich, S.S. Stukalov, and M.A. Naumenko, Phys. Rev. C 110, 014609 (2024).
Speaker: Ксения Молоторенко (ОИЯИ) -
92
Description of the multinucleon transfer reactions within dinuclear system model
Dynamical decription of the multinucleon transfer reactions 48Ca+208Pb, 50Ti+208Pb and 40Ar+209Bi in the framework of dinuclear system model is presented. The system of master equations with phenomenological transition coefficients is solved for treatment of the nucleon tranfer process. The results of calculations are in good agreement with the recent experimental data obtained at FLNR JINR[1]. The direct relation of transition coefficients and driving potential of dinuclear system provides a simplicity and a high predictive power of the model.
Literature
1. H.M. Devaraja et al, Phys. Lett. B 862 (2025) 139353.Speaker: Shukhrat Kalandarov (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna)
-
88
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Михаил Явор (Институт аналитического приборостроения РАН)-
93
Оценка краевых эффектов в промышленной радиационной обработке на ускорителях электронов
Радиационная обработка — это технология, использующая ионизирующее излучение (электроны, тормозные фотоны или гамма-излучение радиоактивных источников) для направленного воздействия на различные материалы и продукты. Она применяется в медицине (стерилизация инструментов и оборудования), пищевой промышленности (обеззараживание и продление срока годности продуктов), а также в материаловедении (модификация свойств полимеров и композитов).
Сегодня технология активно развивается в России, из-за чего растет интерес к ней со стороны промышленности, и вместе с ним ширится спектр облучаемых объектов. В связи с этим появляется запрос на точное планирование радиационной обработки: помимо доставки продукту определенной дозы необходимо также обеспечить ее правильное распределение по объему продукции. Недостаточная доза не позволяет достичь желаемого эффекта, тогда как чрезмерная доза может повредить объект, ухудшить его качество или нарушить функциональные свойства. Для медицинских изделий допустима неравномерность дозы в пределах 60% в диапазоне 15-25 кГр. Для пищевых продуктов, обрабатываемых в диапазоне доз 2-2.5 кГр, требуется равномерность не менее 80%. Для простых объектов (аппроксимируемых кубической формой) оценку равномерности можно проводить по глубинному дозовому распределению вдоль центральной оси. Однако для объектов со сложной геометрией (начиная со сферической или цилиндрической) такие оценки могут давать погрешность до 15%.
Альтернативой, обеспечивающей более высокую точность, является компьютерное моделирование, которое, однако, требует точного знания энергетического спектра излучения. Прямое измерение энергетического спектра представляет значительные технические и экономические трудности, что делает актуальной задачу восстановления энергетического спектра пучка по глубинному дозовому распределению.
В данной работе предложен трехэтапный метод реконструкции энергетического спектра ускорителя на основе распределений глубинных доз:
1. На первом этапе учитывается влияние тормозного излучения, генерируемого при взаимодействии электронов с конструктивными элементами радиационной установки.
2. На втором этапе по глубинному дозовому распределению в области спада происходит восстановление сингулярной компоненты энергетического спектра у поверхности облучаемого объекта в виде свертки энергетического спектра электронов, покидающих ускоритель, и распределения Ландау.
3. На третьем этапе происходит восстанавление низкоэнергетической компоненты спектра по остаточному дозовому распределению $ D_{res} = D_{exp} - D_{brem} - D_{sing} $ , где $D_{exp}$ - экспериментально измеренное дозовое распределение, $D_{brem}$ - доза «фотонного загрязнения», $D_{sing}$ - дозовое распределение от сингулярной компоненты спектра.Метод был протестирован на промышленных электронных ускорителях с энергиями до 10 МэВ и медицинских ускорителях с энергиями до 20 МэВ. Распределения глубинных доз, рассчитанные с использованием восстановленных спектров, отклонялись от экспериментально измеренных данных не более чем на 1%. Устойчивость метода подтверждена введением искусственного шума до 25% во входные данные, что не привело к значительному ухудшению точности восстановления спектра.
Таким образом, предложенный метод демонстрирует высокую точность и устойчивость при реконструкции энергетических спектров электронных ускорителей. Его применение позволяет улучшить контроль равномерности доз при радиационной обработке объектов сложной формы, что позволит повысить качество и безопасность пищевых продуктов и медицинских изделий.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 22-63-00075).
Speaker: Сергей Золотов (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) -
94
Sr₃SbI₃ Perovskite: First-Principles Insights into Radiation Tolerance, Ionic Dynamics, and Lattice Stability for Nuclear Applications
Lead-free perovskites have emerged as pivotal materials for sustainable optoelectronics and radiation-resistant technologies. This study presents a comprehensive first-principles investigation of Sr₃PI₃, a novel perovskite, leveraging density functional theory (DFT) and molecular dynamics (MD) simulations via Quantum ESPRESSO to elucidate its electronic, structural, and dynamical properties. Self-consistent field (SCF) calculations achieved robust convergence with a total energy of –2477.04 Ry, validated by energy decomposition analysis. Band structure computations along a high-symmetry k-path revealed electronic dispersion characteristics, while preliminary density-of-states (DOS) analysis suggested a potential wide bandgap, necessitating further refinement. MD simulations under an NVT ensemble highlighted distinct ionic dynamics: iodine (I) exhibited notable mobility (displacements up to 0.1 Å), contrasting with the rigidity of antimony (Sb) and minimal strontium (Sr) displacements. BFGS relaxation confirmed structural stability, with forces converging below 1.0×10⁻³ Ry/au.
The material’s dual behavior—combining a stable Sb-Sr lattice framework with mobile iodine sublattices—positions it as a promising candidate for nuclear applications. Sb’s immobility may enhance radiation tolerance by mitigating defect formation, while iodine’s diffusivity suggests potential self-healing mechanisms under irradiation. These attributes align with requirements for neutron moderation and shielding materials, where structural integrity and controlled ionic transport are critical. Additionally, the electronic structure insights lay groundwork for radiation-tolerant semiconductor devices.
Future work will refine DOS resolution, probe high-temperature MD behavior, and simulate radiation damage to directly assess defect dynamics. This study establishes Sr₃PI₃ as a compelling platform for advancing both condensed matter physics and nuclear materials engineering, bridging atomic-scale properties to macroscopic performance in extreme environments.
Keywords: Lead-free perovskite, first-principles simulations, radiation tolerance, ionicSpeaker: Omar Abdelsamad (Coventry University, Egypt Branch) -
95
Prospects for the development of a liquid organic scintillation detector based on neodymium perovskite quantum dots designed to detect particles
The study considers the possibility of creating and using a new type of scintillation detectors - a liquid scintillator doped with neodymium-containing perovskite quantum dots, in order to increase the efficiency of recording rare nuclear reactions. Rare-earth Nd3+ ions were doped into perovskite CsPbBr3 quantum dots by solution processing at room temperature. The luminescence spectra of the obtained quantum dot samples were measured. The data obtained made it possible to estimate the efficiency of energy transfer from the base material to the doping neodymium ions and to determine the potential for using the synthesized structures as an effective scintillation material. The results obtained are of great practical importance for the development of new technologies in the field of low-energy radiation detection, applicable in fundamental research in nuclear physics and cosmology. The creation of efficient scintillation detectors based on quantum dots opens up prospects for solving a number of scientific problems related to the study of neutrino properties and the search for manifestations of lepton number symmetry violations. Special attention is paid to the discussion of methods for synthesizing quantum dots, the features of the luminescent characteristics of the obtained material, and calculations of the expected detection efficiency. The prospects for further improvement of the proposed concept are considered to expand the possibilities of experimental search for the most important effects that determine the properties of particles and the nature of our Universe.
The study is performed within the ARIADNA Collaboration.Speaker: Ntombizonke Kheswa (NRF/iThemba LABS) -
96
Использование мессбауэровской спектроскопиии для определения сорбционных центов взаимодействия гексацианоферрата железа с металлами платиновой группы
Рутений, родий и палладий, образующиеся при делении урана, относятся к металлам платиновой группы (МПГ). При переработке отработавшего ядерного топлива МПГ попадают в высокоактивный водно-хвостовой раствор (ВХР), который на завершающей стадии процесса направляется на отверждение путем включения в стеклянную матрицу. Наличие в ВХР МПГ вызывает серьезные эксплуатационные проблемы при их остекловывании [1-3]. Именно поэтому разработка технологии извлечения металлов платиновой группы для улучшения режимов остекловывания и продления срока службы плавильных установок является актуальной задачей.
В АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» с помощью синтезированного сорбента, гексацианоферрата железа, и подобранных технологических параметров удалось провести одновременное и количественное извлечение МПГ из азотнокислых растворов.
Совершенно очевидно, что дальнейшая разработка оптимальных технологических схем извлечения рутения, родия и палладия невозможна без понимания специфики физико-химического взаимодействия этих металлов с гексацианоферратом железа, имеющим сорбционные центры различных типов.
Использованная нами мессбауэровская спектроскопия позволила изучить особенности взаимодействия Ru, Rh, Pd с Fe$_4$[Fe(CN)$_6$]$_3$ и определить сорбционные центры для каждого металла.- A. Demin et al. // Proc. Intern. Conf, Nuclear Waste Management and Environ. Prague, Czech Republic, Sept. 05 – 11, 1993, Vol. 2. P. 435–441.
- Luckscheiter B. et al.// Ibid, 1993. P. 427–433.
- Onishi T. et al.// Energy Procedia 2017. № 131. P. 151-15.
Speaker: Полина Давыдова (АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», г. Санкт-Петербург) -
97
Радиометр быстрых нейтронов для источников импульсного типа
В данной работе представлена концепция радиометра быстрых нейтронов на основе активационного метода для источников импульсного типа. В качестве активируемого материала в экспериментальном образце радиометра используется изотоп 115In в составе природного индия. Для регистрации широкого диапазона выхода нейтронов радиометр содержит два канала с низкой и высокой чувствительностью к нейтронам. Работа содержит результаты измерения выхода нейтронов за импульс DD- и DT-камер плазменного фокуса (ПФ).
В связи с увеличившейся эксплуатацией импульсных нейтронных источников, определение характеристик этих источников является актуальной задачей в области регистрации излучений. Импульсный характер нейтронного излучения (от десятков наносекунд до единиц микросекунд) ограничивает возможности используемых методов измерения, так как дополнительно возникает необходимость регистрации большого количества событий за малый промежуток времени [1].
В данной работе представлен экспериментальный образец радиометра быстрых нейтронов. Принцип работы устройства основан на методе активации нейтронами материала с последующей регистрацией вторичного излучения [2]. В качестве активационного материала выбран изотоп 115In в составе природной смеси (95%). В результате реакции (n,γ) образуется изотоп 116In с периодом полураспада 14.1 с, распад которого сопровождается β-излучением со средней энергией 1.37 МэВ. Индиевая фольга обернута вокруг счетчиков Гейгера-Мюллера СБМ-19, которые осуществляют регистрацию вторичных β-частиц. Чувствительный канал содержит 4 счетчика с массой фольги 21 г каждый, грубый канал содержит 2 счетчика с массой фольги 0.35 г каждый. Счетчики с активируемым материалом находятся внутри замедлителя из полиэтилена. Параметры блока детектирования (БД) были оптимизированы с использованием модели в GEANT4.
С экспериментальным образцом проведен ряд испытаний на источниках импульсного нейтронного излучения на основе DD- и DT-камер ПФ. Время измерения импульса составляет 30 секунд, время паузы между импульсами – 120 секунд. Показана линейная зависимость счета экспериментального образца и выхода нейтронов при значениях выхода для 2.5 МэВ – 106–1012 н/имп и для 14 МэВ – 107–1014 н/имп. Анализ основных источников погрешностей и степени их вклада в итоговую неопределенность полученного с помощью экспериментального образца выхода нейтронов в импульсе показал значение неопределенности порядка 17%.Список литературы
1. Веретенников А. И., Горбачев В. М., Предеин Б. А. Методы исследования импульсных излучений //М.: Энергоатомиздат. – 1985. – Т. 8.
2. Prokopowicz R. et al. Measurements of neutrons at JET by means of the activation methods //Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Секция A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2011. – Т. 637. – №. 1. – С. 119-127.Speaker: Анастасия Денисенко (НИЯУ МИФИ)
-
93
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Experiment 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Daria Prokhorova (Tsinghua University)-
98
Новый эксперимент по измерению массы ипсилон-мезона на коллайдере ВЭПП-4М с детектором КЕДР.
В Новосибирске на коллайдере ВЭПП-4М начался эксперимент по измерению массы 1S-состояния ипсилон-мезона с целью уменьшить неопределенность значения массы в два раза и достичь точности 50 кэВ, $5.10^{-6}$ в относительных единицах. В докладе рассказывается о подготовке к эксперименту, включающей поправку результатов предыдущих измерений, проведенных около 40 лет назад, разработку лазерного поляриметра для измерения энергии пучков методом резонансной поляризации, представлено текущее состояние эксперимента и предварительные результаты. В данный момент точность измерения составляет 150 кэВ, результат согласуется, с результатами предыдущих измерений, точность которых около 100 кэВ. Для достижение планируемой точности требуется дополнительный набор статистики.
Speaker: Андрей Шамов (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН) -
99
Измерение процесса $e^{+} e^{-} \rightarrow \pi^{+} \pi^{-} \pi^{0}$ в области энергий $\omega$-мезона с детектором КМД-3 на ВЭПП-2000
Сечение процесса $e^+e^- \to \pi^+\pi^-\pi^0$ было измерено с криогенным магнитным детектором (КМД-3) на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000 в области энергий центра масс $\sqrt{s} < 984$ МэВ. Измерение основано на данных, собранных в ходе четырёх энергетических сканирований в 2013 и 2018 годах, что соответствует интегральной светимости около 60 пб$^{-1}$. Анализ измеренного сечения проведён в рамках модели векторной доминантности с учётом интерференции между резонансами $\rho$, $\omega$, $\phi$, $\omega^\prime$ и $\omega^{\prime\prime}$. Измерены параметры $\omega$-мезона, а также $\rho$-$\omega$ интерференция в канале $\pi^+\pi^-\pi^0$. Результаты используются для оценки адронного вклада в аномальный магнитный момент мюона $(g-2)_\mu$.
Speaker: Сергей Толмачев (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет) -
100
Study of the process $e^+e^- \to p\bar{p}$ from the production threshold to $\sqrt{s} = 2.007$ GeV with the CMD-3 detector at the VEPP-2000 collider
Using a data sample of $230~pb^{−1}$ collected with the CMD-3 detector at the VEPP-2000
$e^{+}e^{−}$ collider, we selected about 43k events of the process $e^{+}e^{−} \rightarrow p\bar{p}$ and measure its cross-section at 29 energy points. The Born cross-section of the process is given by$$\sigma_{p\bar{p}}(s) = \frac{4\pi\alpha\beta C}{3s}\left[ |G_M(s)|^2 + \frac{2M_p^2}{s}|G_E|^2 \right],$$ where $\sqrt{s}=2E_{beam}=E_{c.m.}$ is the center-of-mass energy, $M_p$ is the proton mass, and $\beta = \sqrt{1 - 4M_p^2/s}$, $C= y/(1-e^{-y})$, $y = \pi\alpha/\beta$ is the Sommerfeld-Gamov-Sakharov factor which takes into account Coulomb interaction of particles in the final state. From the angular distribution of produced nucleons, we obtain the ratio $|G_{E}/G_{M}|$, which is of great interest because of the inconsistency between results obtained in the PS170 experiment at LEAR and BaBar latest measurement in the energy region almost entirely covered by this work. Additional interest in this energy range is related to an unusual behaviour of the $e^{+}e^{−} \rightarrow 3(\pi^+\pi^-)$ cross-section near the proton-antiproton threshold.
Preliminary results of the cross-section and form factor ratio measurements will be shown.Speaker: Daniil Ivanov (Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk State University) -
101
Предварительные результаты измерения сечения процесса $e^+e^- \to K_SK_L\pi^+\pi^-$ с детектором КМД-3 на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000
В работе представлены предварительные результаты измерения сечения процесса $e^+e^- \to K^0_SK^0_L \pi^{+} \pi^{-}$ с детектором КМД-3 на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000 в области энергий от 1600 до 2007 МэВ в системе центра масс. Основной интеграл светимости был набран в 2020-2022 гг. и составил примерно 400 обратных пикобарн. Для отбора событий изучаемого процесса использовались особенности кинематики таких событий в детекторе КМД-3, а также $\chi^2$ кинематической реконструкции. Наши результаты измерения сечения процесса $e^+e^- \to K^0_SK^0_L\pi^{+}\pi^{-}$ качественно подтверждают результаты коллаборации БаБар. но имеют лучшую статистическую точность.
В области энергий рождения нуклон-антинуклонных пар наблюдается "аномалия" в зависимости сечения от энергии. Аналогичный эффект наблюдался ранее в канале с шестью заряженными пионами в конечном состоянии.Speaker: Геннадий Федотович (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН) -
102
Изучение процесса $e^{+}e^{-}$ $\to$ $n\bar{n}$ на детекторе КМД-3 коллайдера ВЭПП-2000
Работа посвящена изучению процесса $e^{+}e^{-}$ $\to$ $n\bar{n}$ на детекторе КМД-3. Анализ проведён на данных, набранных с 2019 года в диапазоне энергий пучка от порога рождения нейтрон-антинейтронных пар (порог рождения - 939.6 МэВ) до 1 ГэВ, с интегральной светимостью $\sim$ 200 пб$^{-1}$. Основная сложность задачи связана с высоким уровнем фоновых событий: отношение сигнал/фон составляет порядка 1:10000, где доминирующий вклад вносят космические события. При энергиях, близких к порогу (940–1000 МэВ), нейтрон-антинейтронная пара имеет малую скорость, что делает метод времени пролёта основным инструментом выделения событий. Для подавления фона разработан многокритериальный подход, сочетающий традиционные методы с алгоритмами машинного обучения. Доклад фокусируется на ключевых этапах обработки данных и обеспечивает надёжное выделение сигнальных событий, что является важным условием для последующего точного измерения сечения процесса и форм-фактора нейтрона. Представлены предварительные результаты анализа.
Speaker: Artem Amirkhanov (BINP)
-
98
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Theory 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Aleksandr Svetlichnyi (INR RAS, MIPT(NRU))-
103
Эффективная модель адронов, построенных из валентных кварков на световом фронте
Решаемая в данной работе задача -- это построение эффективного гамильтониана на световом фронте (СФ) и описание спектра масс адронов [1-14]. При этом используется ограничение пространства Фока на СФ "валентными" кварками.
Предлагаемый нами метод – это введение пространства "валентных" кварков с помощью операторов кварковых полей, действующих на вакуумное состояние на СФ. При этом кварковые поля рассматриваются в различных точках пространства и соединяются аналогом "глюонной струны", т.е. P-упорядоченной экспонентой, которую обычно применяют для калибровочной инвариантности состояния. Однако для простоты рассматривается только "нулевая мода" глюонного поля $A_\mu$, зависящая только от времени $x^+$ на СФ, и которая диагональна как матрица в "цветном" пространстве группы $SU_c(3)$. Для классификации адронных состояний по спину и орбитальному моменту количества движения предлагается рассматривать кварки в системе покоя адрона, а адронные волновые функции в этой системе определять как собственные функции спектрального уравнения для 3-мерного квантового гармонического осциллятора, собственные значения которого качественно соответствуют наблюдаемому спектру квадратов масс адронов.
Работа поддержана Российским Научным Фондом, грант № 24-22-00220.Литература- M. Malyshev, E. Prokhvatilov, Phys.Part.Nucl.Lett. 22 (2025) 1, 126-130.
- E.V. Prokhvatilov, I.A. Lebedev, M.Yu. Malyshev, Phys.Part.Nucl. 54 (2023) 3, 384-392.
- E.V. Prokhvatilov et al., Proc.Int.Conf.Hadron2019, (2020), 632-637.
- M.Yu. Malyshev, E.V. Prokhvatilov, V.A. Franke, Phys.Part.Nucl.Lett. 16 (2019) 5, 533-536.
- M.Yu. Malyshev et al., Phys.Part.Nucl.Lett. 15 (2018) 4, 376-379
- M.Yu. Malyshev et al., Theor. Math. Phys. 190 (2017) 3, 411-423.
- M.Yu. Malyshev et al., AIP Conf.Proc. 1701 (2016).
- M.Yu. Malyshev et al., Int. J. Theor. Phys. 54 (2015) 1, 169-184.
- M.Yu. Malyshev et al., Theor. Math. Phys. 184 (2015) 3, 1314-1323.
- R.A. Zubov, E.V. Prokhvatilov, M.Yu. Malyshev, Theor. Math. Phys. 184 (2015) 3, 1287-1294.
- M.Yu. Malyshev, E.V. Prokhvatilov, Theor. Math. Phys. 169 (2011) 1600-1610.
- S.J. Brodsky et al., Phys. Rep. 584, 1–105 (2015).
- Y. Li, P. Maris, X. Zhao, and J.P. Vary, Phys. Lett. B 758, 118–124 (2016).
- S.S. Chabysheva, J.R. Hiller, Annals Phys. 337 (2013) 143-152.
Speaker: Dr Михаил Малышев (Петербургский институт ядерной физики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») -
104
Speed of sound in quark matter with different imbalances
It has been shown in the framework of effective models that QCD phae diagram as in thee color cas as well as in two color one possesses dualities.
I means that various phenomena are dual with respect to each other. Then dualities were shown in a more and more general setings. And then finally dualities has been shown from first principles,
three dualities as in two color QCD and one in three color one. The fact that dualities have been shown from first principles, i. e. in QCD itself, expanded their possible application much further.
In the talk I discuss two interesting applications. (i) studies of speed of sound at various chemical potentials (ii) studies of inhomogeneous phases, including rather unexpected ones.The talk is partly based on
Eur. Phys. J. C 84 (2024), 1140
Phys. Rev. D 111 (2025) no.1, 014021In detail about (i) and (ii):
(i) The equation of state of dense hadronic matter is not known yet, so the speed of sound at large baryon densities. The speed of sound at zero baryon density and non-zero temperature has been obtained in lattice QCD simulations. And the behavior is the following, it rises with increase of temperature but up to asymptotic value of 1/3, but never exceeds that value. It is called conformal bound. At non-zero baryon density, in the region of phase diagram interesting in the context of neutron stars lattice simulations are plagued by the sign problem and is not now possible. There was idea that maybe speed of sound should not exceed conformal bound at non-zero baryon density as well. Though observational data favor the scenario that speed of sound breaks the conformal limit at muB, it is still an open question.Recently in [B.B.Brandt, F.Cuteriand G.Endrodi, JHEP 07, 055 (2023); R. Abbott et al. [NPLQCD], Phys. Rev. D 108, no.11, 114506 (2023)] it has been shown from first principles (lattice QCD) that the conformal bound is broken in quark matter with isospin density (isospin asymmetric quark matter).
Then using duality mapping it is possible to get sound speed in quark matter with chiral imbalance mu_{I5} and show that conformal bound is also broken in this case.
And having shown duality from first principles it is also first principle robust result.
Then it was also found that there are additional weaker dual symmetries in phase diagram shown only in the framework of effective models. If one uses these dualities, though it would not be first principle results, one can show that conformal bound is also broken in quark matter with chiral imbalance mu5.
Then it was shown in two color QCD lattice calculations [E. Itou and K. Iida, PoS LATTICE2023, 111 (2024); PTEP 2022 (2022) no.11, 111B01] that conformal bound is exceeded in the case of two colors at non-zero baryon density. Then using first principle dualities one can show that conformal bound is broken at (i) isospin chemical potential (ii) chiral chemical potential mu_{I5}. Moreover, using additional dualities found in effective models one can show also that it does at (iii) chiral chemical potential mu5. So it is shown to be broken at all chemical potentials in two color case.So one can see from all these results on two color and three color QCD that it is not very peculiar and uncommon to break conformal bound at non-zero chemical potentials.
(ii) Inhomogeneous phases has long history on research but it is still open question if there is inhomogeneous phases in QCD at finite baryon chemical potential. Some inhomogeneous phases have been predicted in various approaches. Dualities gives us opportunity to predict plethora of new inhomogeneous phases. The most interesting phase is the one at zero baryon chemical potential, as a rule one is used to the fact that inhomogeneous phases can be present at nno-zeroi mu_B and it is a first example of inhomogeneus phase at zero mu_B (some other chemical potentials are non-zero)
Speaker: Roman Zhokhov (IZMIRAN, IHEP) -
105
Elementary atoms in spaces of constant curvature by the Nikiforov-Uvarov method
Spaces of constant curvature provide the simplest curved background against which to study theoretical problems and questions related to quantum mechanics in curved spaces, and therefore such studies are of considerable theoretical interest. However, they are not only of academic interest. Effective curvature of space arises in a number of real physical situations from the physics of atoms and nanotubes to the chiral and deconfinement phase transition in the Nambu-Jona-Lasinio model, symmetries of the W algebra of string theory and quasi-exactly solvable models, as well as superintegrability in the framework of supersymmetry (see, for example [1-3]).
The Nikiforov-Uvarov method is a simple, yet elegant and powerful method for solving second-order differential equations of generalized hypergeometric type [4]. In the past, it has been used to solve many problems in quantum mechanics [5,6,7]. We apply this method to the classical problem of hydrogen-like atoms in spaces of constant curvature. Both the spectra of these atoms and their wave functions, including normalization, are easily obtained.
References
[1] Carinena J.F., Ranada M.F., Santander M. The quantum free particle on spherical and hyperbolic spaces: A curvature dependent approach. J. Math. Phys., 2011, vol. 52, pp. 072104.
[2] Kirchbach M., Compean C.B. Baryons from quarks in color gauge space of constant positive curvature and deconfinement. Preprint arXiv:0805.2404, 2008.
[3] Quesne C. Quasi-exactly solvable extensions of the kepler–coulomb potential on the sphere. Ann. Phys., 2023, vol. 451, pp. 169265.
[4] Nikiforov A., Uvarov V. Special Functions of Mathematical Physics: A Unified Introduction with Applications, Springer, Basel, 1988.
[5] Ellis L., Ellis I., Koutschan C., Suslov S.K., On Potentials Integrated by the Nikiforov-Uvarov Method. Preprint arXiv: 2303.02560, 2023.
[6] Tezcan C., Sever R., A general approach for the exact solution of the schrodinger equation. Int. J. Theor. Phys., 2009, vol. 48, no. 2, pp. 337–350.
[7] Suslov S.K, Vega-Guzman J.M, Barley K., An introduction to special functions with some applications to quantum mechanics, in: Foupouagnigni M., Koepf W. (Eds.), Orthogonal Polynomials, Springer International Publishing, Cham, 2020, pp. 517–628.Speaker: Zurab Silagadze (Budker Institute of Nuclear Physics and Novosibirsk State University) -
106
Direct Search for Low-Mass Dark Matter
The nature of dark matter is a fundamental problem in such fields as elementary
particle physics, astrophysics and cosmology. There are lots of experiments aimed
at the detection of dark matter. Among them, there is DarkSide-50 at Laboratori
Nazionali del Gran Sasso (LNGS), Italy, which uses argon as the target material and
measures the recoil energy of target particles, nuclei and electrons, in forms of
scintillation and ionization signals. In this talk, we present the current results of
several dark matter detection approaches in the DarkSide-50 experiment in the low
(less than a few GeV/c^2) mass region. These results include the most stringent
upper limit on the spin-independent dark matter nucleon cross section for masses
between 40 MeV/c^2 and 3.6 GeV/c^2, which was obtained by using the ionization
signal only and by including the Migdal effect in the analysis.Speaker: Sergey Chashin (Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University)
-
103
-
7. Nuclear medicine РХО ПИБ (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
РХО ПИБ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: А. П. Черняев (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия)-
107
Экспериментальное определение сечений реакции 12C(12C,X)11C для калибровки монитора интенсивности выведенного пучка ионов углерода клинически значимых энергий
В настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ ведутся работы по созданию первого в России экспериментально-клинического комплекса углеродной ионной лучевой терапии на действующем ускорительном комплексе У-70. Ведутся работы по разработке методики использования ионов углерода в медицинских целях [1]. Для абсолютной и относительной дозиметрии ионизирующего излучения в терапии ионами углерода наибольшее распространение получили ионизационные камеры. Особое внимание уделяется разработке методик их абсолютной калибровки для уменьшения неопределенностей в измерении величины поглощенной дозы, так как для медицинского применения точность подведения дозы к объему облучаемой опухоли, должна быть не хуже 5%.
В работе приведено описание оригинальной методики абсолютной калибровки ионизационных камер активационными детекторами при работе с выведенными пучками ускоренных ионов углерода. Методика позволяет реализовать калибровку ионизационных камер для измерения интенсивности пучка ионов углерода в диапазоне энергий 400–450 МэВ/нуклон. Используется низкофоновая радиометрическая установка, работающая по принципу --совпадений, активационный детектор из чистого углерода с естественной смесью изотопов и реакция 12C(12C,X)11C.
Для увеличения точности активационной методики необходимо как можно точнее знать сечение реакции 12C(12C,X)11C в диапазоне клинически необходимых энергий (150–450 МэВ/нуклон), так как экспериментально оно измерено лишь для некоторых фиксированных энергий, при этом существует значительная разница между полученными данными [2, 3]. На ускорительном комплексе У-70 во время углеродного сеанса были получены экспериментальные значения сечения реакции 12C(12C,X)11C на энергии 450 МэВ/нуклон и 400 МэВ/нуклон. Для энергии 450 МэВ/нуклон составило 65,249 мб, а для энергии 402,5 МэВ/нуклон - 63,853 мб. Результат находится в разумном согласии с имеющимися мировыми данными [2].- Yu.M. Antipov et al., Instrum. Exp. Tech. 67, S300 (2024).
- F. Horst Phys. Med. Biol. 64, 205012 (2019).
- G. Arico et al., Proc. ND 2019. May 2019, Beijing 24001 (2020).
Speaker: Алина Васильева (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») -
108
Аспекты инфраструктурной реализации системы планирования комплекса нейтронной терапии на базе генератора НГ-24МТ
Практически с момента открытия нейтронов, исследователи по всему миру стали подразумевать огромный потенциал от их использования в терапии злокачественных новообразований. К сожалению, на протяжении практически вековой истории применения метода, оставался ряд фундаментальных проблем, начиная от механизмов их получения и генерации, включая размеры источников, и заканчивая радиобиологическими особенностями и сложностями в описании взаимодействия нейтронного излучения и его эффективного действующего спектра ионизации, с живыми объектами. На настоящий момент в России создан и готов к клинической апробации инновационный комплекс медицинского назначения, предназначенный для дистанционной терапии быстрыми нейтронами 14,8 МэВ [1].
В рамках выполнения работ по созданию установки медицинского назначения, был выполнен огромный спектр научно-технологических изысканий. Сюда относятся расчёты защитного каньона для расположения установки [2], проектирование систем коллимации и биологической защиты генератора, а также разработка научно-технологического и программно-алгоритмического обеспечение, предназначенных для планирования дистанционной нейтронной терапии.
Система планирования комплекса построена по архитектуре клиент-сервер, при этом поддерживаются и апробированы реализации в виде территориально-обособленного клиента с передачей данных на базе сетей общего пользования с применением протоколов SSH для архитектуры передачи команд и SCP для передачи файловой информации. Интеграция данных между медицинскими устройствами, включая средства топометрии, системы визуального отображения терапевтических характеристик создаваемого поля, и фактическую передачу данных на пульт управления установкой, обеспечивается в соответствие с отраслевым стандартом DICOM. Совокупность клиентских приложений представлена обособленными исполняемыми файлами для среды Windows, написанными на языках С++, C# и Python. Серверные средства представлены одиночной платформой высокопроизводительных вычислений на базе Intel Xeon с видеокартой nVidia Tesla V100, под управлением операционной системы Proxmox. В рамках среды Proxmox развёрнута виртуальная машина, предоставляющая доступ к пространству дискового хранилища по протоколам CIFS, NFS, SCP и iSCSI, а также основной вычислительный бэкенд-сервер на базе Ubuntu. Основным физическим движком является среда Монте-Карло моделирования общего назначения Geant4 [3], осуществляющая расчёт транспорта фазового пространства, получаемого из любых совместимых сред (MCNP, Fluka, TOPAS) по воксельной сетке со специализированным алгоритмом преобразования томографических и топометрических данных. Дополнительная обработка данных, агрегация результатов выполнения расчётов, построения статистики, управление и мониторинг запуска множественных задач планирования, реализованы на базе языков C++, C# и Python. Дополнительно поддерживается модуль CUDA для расчёта относительной биологической эффективности [4].- Мардынский Ю.С. и соавт., Вестник Российской Академии Наук 94(1) 80-86 (2024)
- Чернуха А.Е. и соавт., Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика. 3 158-167 (2022)
- Agostineli S. et al., Nucl. Instr. and Meth. A 506(3) 250-303 (2003)
- Gordon K.B. et al., Bulletin of Experimental Biology and Medicine 173(2) 281-285 (2022)
Speaker: Алексей Соловьев (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России) -
109
Separation of nuclear isomers: towards the design of 44mSc/44gSc radionuclide generator
44gSc presents a particular interest for application in nuclear medicine as a positron emission tomography (PET) radionuclide due to its favorable nuclear decay properties (t1/2 = 3.97 h, Emax = 1.47 MeV, branching ratio 94.3% β+). Its nuclear isomer 44mSc (t1/2 = 58.61 h) decays by isomeric transition (IT) into 44gSc, accompanied by ≈12% of conversion electron emission. So-called ‘after-effects’ caused by the emission of conversion electrons, which create a vacancy in the inner shells (K, L) followed by the Auger emission and other relaxation processes, may lead to complex disintegration when attached to the chelator, and consequently, to a partial release of the daughter.
Both 44mSc and 44gSc were produced via irradiation of natural Ca targets with 12.8 MeV protons. The further separation of Sc isomers from the target material was carried out using a direct-flow two-step radiochemical scheme, which includes DGA resin (branched, 50-100 μm) and HCl solutions, and cation-exchange resin Dowex 50Wx8 (200-400 mesh) and solution of ammonium α-hydroxyisobutyrate (NH4-α-HIB) [1]. The radiolabeling of DOTATOC (C=10-4 M, pH 5, 85°C, 60 min) with 44m/gSc was analyzed via instant thin layer chromatography (iTLC) and showed radiochemical yields of 98%. The system consisted of 44m/gSc attached to DOTATOC, Strata C-18E as a generator column and 0.1 M NH4-α-HIB as an eluent. The generator was eluted once a day with 0.1 M NH4-α-HIB. Quantification of the 44gSc yield and breakthrough of 44mSc was measured using γ-spectroscopy. The designed generator demonstrated 9.8±1.0% yield, which is close to the theoretical 12% yield (or ~80% per the portion of conversion). The breakthrough of the parent 44mSc was reduced from 3% during the first elution to 0.03% during the last elution (typically the generator was eluted 5-6 times). It is important to mention, that attempts to design a generator with 44m/gSc-DOTATATE on Strata X column resulted in low yields of less than 10% per the portion of conversion, which was also observed earlier by Huclier-Markai et al [2].
These results demonstrate the influence of after-effects on the stability of the initial complex, where 44gSc is one of the only examples with low Z. Moreover, this scheme would give the opportunity for generator sources of PET radionuclide - 44gSc to enable transport and kit labeling synthesis in the medical facility.References
[1] Kurakina E.S. et al. Nucl. Med. Biol.104–105, 7 (2022).
[2] Huclier-Markai S et al. Nucl. Med. Biol. 41, e36 (2014)Speaker: Elena Kurakina (JINR) -
110
Разработка графического интерфейса Физического модуля системы планирования ионной лучевой терапии
Для первого в России центра ионной лучевой терапии, создаваемого на базе действующего Ускорительного комплекса У-70 НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ в г. Протвино, разрабатывается уникальная система планирования облучения [1]. Она будет состоять из трёх основных модулей: Физического, Биологического и модуля Оптимизации.
Работа Физического модуля, в свою очередь, также строится на модульном принципе. Каждый из его модулей выполняет определённые задачи, требующиеся для осуществления успешного облучения ионами углерода. Централизованная работа всех программ будет организована при помощи графического интерфейса, функциональные требования к которому определяются структурой Физического модуля планирующей системы.
В работе представлено описание и текущее состояние графического интерфейса Физического модуля системы планирования ионной лучевой терапии, разрабатываемого на основе Qt [2]. Рассмотрены структура модуля и связанный с ней функционал графической оболочки. Показана актуальная версия интерфейса, направленная на обработку медицинских файлов в формате DICOM, а также на работу с болюсом.- Центр ионной лучевой терапии [Электронный ресурс] // Официальный сайт института физики высоких энергий имени А.А. Логунова.
Режим доступа: http://www.ihep.su/files/Journal_2017_Final_2_05_02_2018.pdf - The Qt Project : [Электронный ресурс] // URL: https://contribute.qt-project.org
Speaker: Екатерина Парменова (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») - Центр ионной лучевой терапии [Электронный ресурс] // Официальный сайт института физики высоких энергий имени А.А. Логунова.
-
111
Исследование фотоядерных реакций с вылетом заряженных частиц на редкоземельных элементах для получения перспективных медицинских изотопов
В последние годы наблюдается бурный рост исследований и клинических испытаний новых терапевтических радиофармпрепаратов, которые доставляют источник излучения непосредственно к раковым клеткам. Одной из основных проблем внутренней радионуклидной терапии является количественная оценка дозы, получаемой различными органами пациента, в основном из-за сложности ее измерения. В тераностическом подходе это преодолевается за счет комбинации подходящего диагностического радионуклида, испускающим низкоэнергетическое γ-излучение с терапевтическим радионуклидом, испускающим α- или β-частицы, конверсионные и/или оже-электроны.
Интерес к использованию редкоземельных радиометаллов в тераностике обусловлен их похожими химическими свойствами, которые позволяют легко и взаимозаменяемо включать их в идентичные бифункциональные хелаторы или таргетные биомолекулы без дополнительной модификации.
В настоящее время проведено большое количество клинических исследований с применением диагностических и терапевтических редкоземельных радионуклидов. Рутинное использование ряда таких радионуклидов в клиниках сдерживается сложностью методов их получения, требующих оптимизации.
Нами проводятся исследования получения на ускорителях электронов некоторых перспективных редкоземельных медицинских радионуклидов (166Ho, 177Lu, 188-189Re) в фотоядерных реакциях с вылетом заряженных частиц. Получены комплексные данных о выходах (γ, pXn)-реакций и (γ, αXn)-реакций на мишенях эрбия, гафния, тантала, осмия и иттрия. Полученные результаты обсуждаются. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 25-22-20051).Speaker: Антон Кузьменков (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)
-
107
-
16:30
кофе-брейк
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
70(2013)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Ivan Mitropolsky (Petersburg Nuclear Physics Institute of NRC Kurchatov Institute)-
112
Study of the structure of 16,18O nuclei in the alpha-cluster model by hyperspherical functions and Feynman’s path integrals
The light nuclei $^{16,18}$O used as target and projectile nuclei in the many experimental studies of the nuclear reactions. The study of the structure of these nuclei is necessary for theoretical description of such reactions. Wave functions of the ground state of the $^{16,18}$O nuclei in the alpha-cluster model are calculated using Feynman’s path integrals and hyperspherical functions [1,2]. Cubic spline interpolation is applied for solving hyperradial equations [1]. The $^{16}$O nucleus is described as 4-body system 4α. The alpha-alpha interaction in the $^{16}$O nucleus is changed in comparison with well-known Ali-Bodmer potential [3]. The $^{18}$O nucleus is described as 3-body system consisted from $^{16}$O-like cluster and two neutrons [4]. In addition, the shell model of the deformed nuclei is used to calculate the nucleon states in the $^{16,18}$O nucleus for comparison against alpha-cluster model.
- V.V. Samarin, Eur. Phys. J. A, 58, 117 (2022).
- A.S. Bazhin, V.V. Samarin, Bull. Russ. Acad. Sci: Phys., 88, 1177 (2024).
- S. Ali, A.R. Bodmer, Nucl. Phys., 80, 99 (1966).
- V.V. Samarin, Phys. At. Nucl., 78, 861 (2015).
Speaker: Anton Bazhin (Joint Institute of Nuclear Research, Bogolubov Labaratory of Theoretical Physics, Dubna, Russia) -
113
Проверка CVC-гипотезы на основе сверхразрешенных бета-переходов типа Ферми между 0+ состояниями с изоспином 1
CVC-гипотеза утверждает, что константа векторной части адронного слабого взаимодействия GV. не меняется в зависимости от ядерной среды. Поскольку для сверхразрешенных бета-переходов типа Ферми между 0+ состояниями с изоспинами T = 1 величина Ft однозначно связана с величиной GV, то одним из способов строгой проверки CVC-гипотезы является проверка постоянства Ft для этих переходов [1]. Поскольку функция F вычисляется теоретически, то важнейшей частью оценки величины Ft является оценка на основе экспериментальных данных значений парциального периода полураспада $t=T_{1/2}/P_β$, где $T_{1/2}$ – период полураспада, $P_β$-вероятность бета-перехода на данный 0+-уровень дочернего ядра.
В настоящей работе выполнена оценка «скорректированных» значений Ft (учитывающее теоретические поправки) с использованием достоверных (оцененных) значений $t=T_{1/2}$ и $P_β$, полученных из экспериментальных и теоретических данных для 15 радионуклидов на основе методики, опубликованной в [2], и проведено сравнение с результатами оценки [1].
По результатам нашей оценки подтвердилось постоянство (в пределах погрешности) значения Ft=3072.3 (1.1) для сверхразрешенных бета-переходов типа Ферми между 0+ состояниями с изоспинами T = 1.
Список использованных источников
1. J.C. Hardy et al., Phys. Rev. C 102, 045501 (2020).
2. N. K. Kuzmenko, Applied Radiation and Isotopes 180, 110039 (2022).Speaker: Илья Гусев (Санкт-Петербургский государственный университет) -
114
Electromagnetic properties of the 12C nucleus within the 3α model
The aim of present work is to study electromagnetic properties of the 12C nucleus within the 3α cluster model. The αα- potentials of Ali-Bodmer [1] and BFW [2] are examined in describing the charge formfactor and root-mean square charge (RMS) radius of the carbon ground state. It was established that the l-independent Ali-Bodmer (AB) potential with a repulsive core yields a very strong underbinding with E=-0.60 MeV for the ground state energy Eexp=-7.27 MeV [3]. At the same time the application of the deep BFW αα -potential with two Pauli forbidden states in the S- wave and a single forbidden state in the D- wave is associated with a complicated problem of removal of Pauli forbidden states from the 3α- functional space. A variational method on symmetrized Gaussian basis is employed. For the elimination of the 3α Pauli forbidden states we use the direct orthogonalization method [4].
As was found in Ref. [4], there exist a special eigen state of the three-body projector( P), which plays a decisive role for the 0+ energy spectrum of the 12C nucleus. This critical eigen state of P ̂creates a ground state of 12C in a deep phase with the energy -19.90 MeV. Without this state, the 3α binding is too small and close to the results of the AB potential. The situation in the 2+ spectrum is similar.
In the present work, we estimate the charge formfactor and RMS radius of the 12C nucleus within the 3α cluster model using the AB and BFW potential models. In order to reproduce the experimental energy value of the 12C nucleus ground state, we preliminary add an attractive three-body potential (TBP) to the AB potential, while a repulsive TBP is employed for the BFW case.
The numerical results show that the model AB+TBP is able to reproduce approximately the position of qmin with an estimate of 1.67 fm-1 and the empirical value of Fch(max) with the estimate 1.31E-2 for the charge formfactor of the 12C nucleus. At the same time, the model BFW+TBP underestimates the second maximum of the Fch(q) by two order of magnitude. The position of the minimum is shifted to the right side with qmin =2.56 fm-1.
The estimate for the RMS radius is close to the experimental data within the model AB+TBP, while it is larger by about 30 % in the case of the BFW+TBP model.- S. Ali, A.R. Bodmer, Nucl. Phys. A 80, 99 (1966).
- B. Buck, H. Friedrich, and C. Wheatley, Nucl. Phys.A 275, 246 (1977).
- E.M. Tursunov, D. Baye and P. Descouvemont, Nucl. Phys. A 723, 365 (2003).
- E.M. Tursunov and I. Mazumdar, Phys. Atom. Nucl. 85, 160 (2022).
Speaker: Ergash Tursunov (INP, AS Uzbekistan) -
115
On the possibility of observing a change in the probability of 99mTc nuclei isomeric transition in a metal matrix during its dissolution
The probability Pc of a conversion transition of 2.17 keV energy in isomeric nuclei of 99mTc (T1/2 ≈ 6.02 h) decreases by up to 0.3% upon transfer of 99mTc atoms from the surface of metals into the depth of metal matrices [1, 2]. A change in Pc can also be expected during the reverse process – destruction of metal matrices with 99mTc. In the present work, we investigated the possibility of observing such an effect upon dissolution of metal matrices with 99mTc and simultaneous measurement of the intensity of 140 keV gamma quanta emitted by 99Tc nuclei after isomeric transitions.
For the experiments, 99mTc pertechnetate with an activity of ~ 100 MBq was used. 99mTc matrices were created by fusing gold foils with 99mTc electrolytically deposited on them and 100 mg of metallic Sm or Yb. These metals were chosen due to their low melting point and good solubility in weakly acid aqueous solutions. In some cases, metallic Sm plates irradiated with 15 MeV protons in a cyclotron were added to the matrices during their fusing. In these cases, the matrices emitted 121 and 197 keV gamma quanta of the 147Eu isotope, which were used to monitor the change in the efficiency of detecting 140 keV gamma quanta upon dissolution of the matrices.
The 99mTc matrixes were dissolved in plastic cuvettes 10 mm in diameter with 0.5 ml of 1M hydrochloric acid solution. The gamma spectra from the cuvettes were measured periodically with an exposure of 30 s and the gamma line intensities were determined. The cuvettes were placed above the sensitive window of a semiconductor gamma detector and the change in the counting rates in the 140 keV gamma line and in the references gamma lines 121 and 197 keV was determined. The cuvettes with the dissolving matrices were also placed between two NaI(Tl) detectors located one above the other and the change in the 140 keV gamma quanta counting rate was determined by each of the detectors. It was found that to observe a change in the Pc probability of less than 1% during the dissolution of 99mTc matrices, it is necessary to have an initial 99mTc activity of more than 1 GBq.- V.V. Koltsov, D.N. Suglobov et al., Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys., 64, 451 (2000).
- V.V. Koltsov, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics, 16(1.2), 302 (2023). doi: 10.18721/JPM.161.246.
Speaker: Vladimir Koltsov (Khlopin Radium Institute, Saint-Petersburg.)
-
112
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Дмитрий Любашевский (Воронежский Государственный Университет)-
116
Упругое рассеяния адронов на ядрах 7Bе и 8B при промежуточных энергиях
В продолжение ранее выполненной работы [1], в данной работе на основе дифракционной теории Глаубера проведен анализ упругого рассеяния адронов (протонов, π^± - и K^± -мезонов) на ядрах 7Ве и 8В при промежуточных энергиях. Данные расчеты выполнены в диапазоне переданных импульсов 0.002≤ |t| ≤ 0.05 (ГэВ/с)2, что соответствует кинематике экспериментов, выполняемой для ряда легких ядер, коллаборацией GSI-ПИЯФ (Германия-Россия) на радиоактивном пучке GSI (Дармштадт, Германия) в инверсной кинематике [2].
В работе используется волновые функции, найденные в рамках (4Не-3Не) двух- и (4Не-3Не-р) трехчастичных кластерных моделях для ядер 7Ве и 8В, соответственно. Используемые нами волновые функции [3], хорошо описывают статические характеристики данных ядер.
Элементарные амплитуды адрон-нуклонных и адрон-4Не взаимодействии, необходимых для глауберовских расчетов в исследуемых ядрах, параметризуются стандартным образом через гауссоиды. Параметры гауссоид для этих элементарных процессов в интересующей нас кинематической области определяются из наилучшего описания соответствующих экспериментальных данных. Однако, для адрон-3Не процесса в настоящее время в научной литературе отсутствует параметризованные элементарные амплитуды. Поэтому этот процесс рассмотрено нами отдельно на основе той же теории Глаубера с явным учетом трехнуклонной структуры 3Не. Получено хорошее согласие с имеющимися экспериментами по рассеянию адронов на этом ядре 3Не. Далее данная схема расчета перенесена для расчетов рассеяния адронов на ядрах 7Ве и 8В.
На основе данного формализма нами проведены расчеты рассеяния адронов на ядрах 7Ве и 8В при энергиях налетающих частиц 200-800 МэВ. Рассеяния протонов хорошо согласуется с имеющимися экспериментальными данными при 700 МэВ. Однако эти эксперименты выполнены для малых углов рассеяния. Мы провели расчеты до углов рассеяния ~ 50о и определили вклады в поперечное сечение от одно- двух- и трехкратных рассеянии. При малых углах доминирует однократное рассеяние, вклад двукратного рассеяния сравнивается с ним в районе 25о. Вклад трехкратного рассеяния в упругом р8В-рассеянии проявляется при 40о. Аналогичные расчеты провели для рассеяния π^± - и K^± -мезонов. При этом нами были сделаны сравнительный анализ рассеяния одного сорта частиц на разных ядрах с целью выяснения проявления особенности ядерной структуры. А также рассеяния разных частиц на одном и том же ядре, для выяснения особенностей элементарного взаимодействия.[1] Abdramanova G.B., Imambek O. / Elastic proton scattering by nuclei 7Be and 8B at 700 MeV/ NUCLEUS -2022, Book of Abstracts, Moscow July 11-16, 2022
[2] A.V. Dobrovolsky et al. / Nuclear-matter distribution in the proton-rich nuclei 7Be and 8B from intermediate energy proton elastic scattering in inverse kinematics/ Nuclear Physics A 989, 40–58 (2019)
[3] Dubovichenko S.B Thermonuclear processes of the Universe. Almaty, Fessenkov V.G. Astrophysical Institute “NCSRT” NSA RK, 402 (2011). ISBN 978-601-278-331-5 (in Russ.).Speaker: Гульбану Абдраманова (Казахский Национальный университет имени аль Фараби, НИИЭТФ, Алматы, Казахстан) -
117
Description of polarization observables in dp elastic scattering at a GeV energies
Deuteron-proton elastic scattering is considered in the multiple-scattering-expansion model. Four reaction mechanisms are included into consideration: one-nucleon exchange, single scattering, double scattering, and delta-isobar excitation in an intermediate state. The model calculates the reaction amplitude, which makes it possible to find the angular dependence of both the differential cross section and any polarization observables. In this report, we present deuteron and proton analyzing powers, as well as the proton polarization transfers in comparison with the data at the deuteron energy of 1.6 GeV.
Speaker: Nadezhda Ladygina (JINR) -
118
The analysis of experimental data in the reaction 40Ar+9Be at energy 36 MeV/nucleon and comparison with model calculations
The analysis of experimental data obtained in the reaction 40Ar+9Be at an incident beam energy of 36 MeV/nucleon on the magnetic separator COMBAS was carried out with the aim of studying competition between different reaction mechanisms in the Fermi energy region. Special attention was paid to velocity distributions of forward-emitted fragments since they contain important information about processes occurring during collisions.
Velocity distributions showed a pronounced asymmetry indicating the presence of at least two main components. One component associated with direct fragmentation was described by Goldhaber distribution and corresponded to direct knockout of fragments from the projectile nucleus. The other component located on the left side of the distribution was related to dissipative processes such as deep inelastic transfer.
Additionally, the report presents comparison of experimental data with simulation results for isotopic and velocity distributions using various methods based on transport-statistical and parametrical models. These results emphasize the necessity of taking into account both mechanisms simultaneously when describing reactions at Fermi energies.Speaker: Erdemchimeg Batchuluun (JINR) -
119
Experimental study of multinucleon transfer reactions induced by $^{209}$Bi
Nowadays applying of multinucleon transfer reactions (MNT) in collisions between heavy nuclei are supposed to be a promising approach to produce new neutron-rich nuclei including nuclei near the N = 126 shell closure. The investigation of the properties of these nuclei is very important for understanding of nucleosynthesis processes. To reach the «island of stability» using of heavy systems in MNT reactions such as $^{238}$U + $^{238}$U and $^{238}$U + $^{248}$Cm [1] are often proposed for synthesis of new neutron-rich superheavy nuclei. Recently the measurements of transfer reactions in the lighter system $^{136}$Xe + $^{238}$U at incident energy of $^{136}$Xe E$_{lab}$ = 1.11 GeV [2] were performed using CORSET setup [3], where the transfer up to 26 nucleons from projectile to target was observed.
For further investigations of MNT reactions to produce new heavy nuclei and observe some special features of near-symmetric collisions in the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions at CORSET setup the $^{209}$Bi + $^{197}$Au, $^{208}$Pb, $^{238}$U reactions at incident energies above the Coulomb barrier have been measured. Using time-of-flight method mass and energy distributions of survived binary reaction products have been obtained as a result of the measurements. The obtained experimental results and the comparison with theoretical calculations performed within the multidimensional dynamical model of nucleus-nucleus collisions based on the Langevin equations [4] are presented.
[1] V.I. Zagrebaev and W. Greiner, Phys. Rev. C 83, 044618 (2011).
[2] E.M. Kozulin et al., Phys. Rev. C 109, 034616 (2024).
[3] E.M. Kozulin et al., Instrum. Exp. Tech. 51, 44 (2008).
[4] A.V. Karpov and V.V. Saiko, Phys. Rev. C 96, 024618 (2017).Speaker: Igor Vorobev (Joint Institute for Nuclear Research) -
120
Nucleon-nucleon correlations in transfer reactions induced by heavy ions
Pairing is a key feature of the nucleon-nucleon (NN) interaction that leads to the characteristic $J^\pi = 0^+$ of the nuclear ground state in even-even nuclei and the characteristic odd-even staggering in the binding energies of nuclei.
In this contribution, I will discuss how the two-nucleon transfer reactions allow us to investigate the properties of pair strength. The basic idea is that transfer cross sections are related to the pair strength. However, the detailed mechanisms and the configuration mixing of single-particle states impose serious difficulties. In this scenario, transfers induced by heavy ions offer a unique scenario to treat $nn$, $pp$ and $pn$ pair transfers on the same theoretical footing. Moreover, its description in terms of semi-classical approach allows interpretation of the experimental data in terms of transfer probabilities. In particular, I will show measurements for 2p- and 1d-transfer in the $^{16}$O + $^{28}$Si system. The $^{28}Si$ nucleus is very suitable in this study because it is a $N=Z$ nucleus with protons filling the 1d$_{5/2}$ shell. Excitation energy spectra and transfer cross sections give some hints on the role of pairing in the reaction mechanisms.
Speaker: Roberto Linares (Universidade Federal Fluminense)
-
116
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Михаил Явор (Институт аналитического приборостроения РАН)-
121
Применение низкоэнергетических ускоренных электронов и рентгеновского излучения как метод предпосевной обработки картофеля
Применение ионизирующего излучения как средства предпосевной обработки потенциально позволяет не только снизить фитопатогенную нагрузку на семенной материал, но и стимулировать его ростовые процессы. Для эффективной обработки биообъектов, помимо подбора эффективной дозы, важную роль играет грамотный выбор используемого вида ионизирующего излучения и его энергии. Целью работы было излучение влияния предпосевной обработки низкоэнергетическими ускоренными электронами и рентгеновским излучением на продуктивность и фитопатогенное состояние картофеля.
Объектами исследования были выбраны клубни картофеля сортов Гала и Фиолетовый. Обработка низкоэнергетическими ускоренными электронами с максимальной энергией 1 МэВ проводилась на линейном ускорителе электронов непрерывного действия УЭЛР-1-25-Т-001 (НИИЯФ МГУ, Россия), а рентгеновским излучением с максимальной энергией фотонов 80 эВ – на аппарате 1ВРV23-100 с рентгеновской трубкой RAD-100 и молибденовым анодом (ФМЦ им. Бурназяна, Москва). Дозы облучения составили 5, 10, 15, 20, 25 и 30 Гр.
Двухлетний полевой эксперимент показал, что в первый год исследования для сорта Гала обработка как рентгеновским излучением, так и ускоренными электронами снижала урожайность культуры. При этом для сорта Фиолетовый удалось добиться повышения урожайности только при облучении семенных клубней ускоренными электронами. На второй год исследования облучение более благоприятно влияло на данный показатель. Для обоих типов излучения были найдены дозы, облучение в которых повышало продуктивность культуры. Фитопатогенный анализ нового урожая показал заражение клубней несклероциальными формами ризоктониоза. Из учёта динамики урожайности и распространения болезни было получено, что облучение увеличивает объём здорового от сетчатого некроза урожая в сравнении с контролем. Так в первый год исследования для сорта Гала удалось достигнуть повышения данного показателя на 29-89% при облучении рентгеновским излучением в дозах 5, 15, 20 и 30 Гр и на 12-75% при облучении электронами в дозах 10, 15, 25 и 30 Гр. Во второй год исследования прирост наблюдался для всех доз излучения кроме 25 Гр и доходил до 56-57% от контрольных значений. В случае с сортом Фиолетовый все дозы излучения в диапазоне 5-30 Гр в оба года исследования повышали количество здорового урожая в 2,4-6,7 раза.
Таким образом, предпосевная радиационная обработка семенного материала позволила повысить как продуктивность картофеля двух различных сортов, так и качество полученного урожая за счёт снижения доли его поражения фитопатогенными грибами. К различиям в результатах обработки, помимо погодных условий, могли привести морфологические особенности клубней сортов Гала и Фиолетовый – их химический состав, размер и глубина залегания ростовых структур – глазков. Для понимания распределения поглощённой дозы и оценки значений линейной передачи энергии (ЛПЭ) для двух типов излучения было проведено компьютерное моделирование процесса облучения с использованием инструментария Geant4. Исходя из карт дозового распределения облучение низкоэнергетическими ускоренными электронами и рентгеновским излучением имело схожий поверхностный характер. При обработке затрагивались потенциальные склероции фитопатогенных грибов на поверхности картофеля и его глазки. При этом результаты распределения ЛПЭ были противоположны для электронов и рентгеновского излучения. Наибольшее значение ЛПЭ для электронов достигалось в глубине клубня, где находились его питательные запасы, а для рентгеновского излучения – на поверхности, где располагались фитопатогенные грибы и ростовые структуры клубня. При этом показатели ЛПЭ для рентгеновского излучения были намного выше, чем для электронов.
Дальнейшее развитие методики радиационной предпосевной обработки культур, таким образом, должно будет включать в себя учёт морфологических особенностей облучаемых объектов и характера используемого типа ионизирующего излучения.Speaker: Ms Яна Зубрицкая (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) -
122
Исследование влияния внешних факторов на концентрацию радона в воздухе
На основе исследований, проведенных в Европе, Северной Америке и Азии, установлено, что радон существенно увеличивает риск развития рака легких. В зависимости от среднего уровня концентрации радона в разных странах, от 3% до 14% случаев рака легких связывают с воздействием радона. Таким образом, радон является вторым по значимости фактором, вызывающим рак легких, после курения [1].
Радон – радиоактивный газ природного происхождения, постоянно присутствующий в атмосфере. Он способен накапливаться в зданиях, проникая туда через дефекты в структуре фундамента, из строительных материалов и с наружным воздухом. В России многие современные дома отличаются повышенной энергоэффективностью. Именно в таких энергоэффективных домах наблюдается наибольшая средняя концентрация радона [2]. Учитывая негативное влияние радона на организм, становится актуальным выявлять факторы, способствующие повышению его концентрации в помещениях.
В работе проводились измерения концентрации радона в здании Учебной лаборатории ядерных процессов на протяжении полутора лет. В результате была получена зависимость объемной активности радона от дня, температуры, влажности и давления. Анализ полученных данных позволил определить места с наибольшей и наименьшей концентрацией радона в пробах воздуха, а также оценить, как различные внешние факторы влияют на процессы образования и накопления радона. Также проводились исследования концентрации радона в многоквартирных домах различного года постройки.Список использованных источников
1. WHO handbook on indoor radon: a public health perspective. Edited by Hajo Zeeb and Ferid Shannoun. France: World Health Organization, 2009.
2. Ilia V. Yarmoshenko, Aleksandra D. Onishchenko, Georgy P. Malinovsky, Aleksey V. Vasilyev, Evgeniy I. Nazarov & Michael V. Zhukovsky. Radon concentration in conventional and new energy efficient multi storey apartment houses: results of survey in four Russian cities: Nature, 2020.Speaker: Ольга Чепурнова (Санкт-Петербургский государственный университет) -
123
Compact cylindrical muon detectors for geophysical researches and industrial applications
A large number of position-sensitive muon detectors for volcano monitoring, tsunami forecasting, fundamental researches of cosmic radiation and nuclear power station monitoring has been developed worldwide [1]. Most of such detectors are massive, having lateral size over 1x1 m2. However, in the geophysical research and geological fields, especially in the situations where detectors have to be placed inside the boreholes or mines, compact detectors with diameter less than 10 cm are required.
In 2018 IDEON (Canada) company has developed [2] a cylindrical borehole muon detector for geological exploration with less than 10 cm diameter based on scintillating fiber. This detector is in active use for searching mineral deposits. In 2021-2023 Italian research group has developed and tested [3] cylindrical muon detector with less than 25 cm diameter based on semi-rings of organic scintillator. In 2024 г. SSC RF «TRINITY» (Russia) has developed and tested [4], the cylindrical borehole muon detector for geological exploration based on scintillating fiber.
This work proposes the development of compact position-sensitive cylindrical muon detector with diameter ~10 cm, length about 1 m and mass no more than 5 kg. The detector will be based on three embedded cylindric layers upon which the scintillating fiber will be laid. Scintillator signal acquisition will be done using SiPM silicon photomultipliers and electronic circuit based on FPGA and comparators. A Monte Carlo simulation of the detector's operation was performed, which showed that expected angular resolution is ~20 mrad for a 20-90° range of zenith angles. For the detector prototype the efficiency has been measured as well as angular distribution of muon flux.
Going forward the developed detector can be used for industrial applications to search for underground lakes, tunnels and cavities in the ground etc.References:
1. N.A. Pasyuk et al., Tech. Phys. V 69, No. 8, P. 1296–1306 (2024).
2. https://ideon.ai.
3. G. Saracino, et al., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research A. 1048, 167995 (2023).
4. www.atomic-energy.ru/news/2025/02/25/153802.Speaker: Dr Alexey Kantsyrev (National Research Center «Kurchatov Institute») -
124
Мюонный томограф для поиска и оценки рудных месторождений
Высокая проникающая способность мюонов, возможность изучения свойств горных пород в условиях их естественного состояния, существенное уменьшение количества скважин по сравнению с традиционными методами геологоразведки, возможность построения трехмерного изображения структуры породы и выявление вещества с высоким содержанием тяжелых элементов делают мюонную томографию перспективным методом геологических разведок.
В работе представлен разработанный полнофункциональный образец мюонного томографа на основе позиционно-чувствительного детектора для проведения поиска и оценки рудных месторождений по измерению ослабления потока мюонов космического излучения в зависимости от глубины погружения. Изготовленный мюонный томограф состоит из четырех модулей длиной около 2.4 м каждый при внешнем диаметре менее 90 мм с возможностью размещения в водозаполняемых скважинах. Конструкция томографа рассчитана на проведение измерений на глубинах до 1500 м.в.э.. Модули работают независимо друг относительно друга и могут последовательно соединяться друг с другом, при этом общая длина томографа при соединении 4-х модулей будет составлять около 10 м. Модули мюонного томографа позволяют измерять угловые параметры треков мюонов с точностью не хуже 17 мрад по азимутальному углу в диапазоне 360° и не хуже 19 мрад по зенитному углу в диапазоне 10-90°. Разработано необходимое программное обеспечение, позволяющее восстанавливать треки зарегистрированных мюонов, определять среднюю плотность грунта и восстанавливать трехмерное изображение исследуемой области. Проведенные испытания мюонного томографа на тестовом объекте, показали его полную работоспособность, при этом точность определения средней плотности грунта составила не хуже 5%.Работа проведена в рамках выполнения НИОКР ГК «Росатом» ЕОТП-ВНЕ-529 «Мюонный томограф для поиска и оценки рудных месторождений» Договор №103/2692-Д от 27.11.2023 между АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» и АО «Эльконским ГМК»
Speaker: Александр Голубев (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ») -
125
Kinetics of transformations of molecular compounds in biological objects under radiation treatment
Radiation treatment is widely used in the food and agricultural industry to inactivate pathogens and extend product shelf life [1]. Ionizing radiation targets both microorganisms and biomacromolecules (proteins, lipids, carbohydrates, and enzymes), potentially altering product quality attributes, such as flavor, color, and texture [2,3]. The radiolytic oxidation of biomolecules generates reactive compounds that can enhance oxidative damage, with effects that can be either beneficial or detrimental, depending on the intended application [4].
The objective of this study was to investigate radiation-induced molecular transformations in biological samples exposed to 1MeV accelerated electrons and 80 keV X-rays, aiming to establish optimal dose ranges for different product categories. These studies have examined low- and high-molecular-weight compounds, including volatile organic compounds, unsaturated fatty acids, proteins, enzymes and carbohydrates, which are contained in biological objects.
Using HPLC-MS/MS, the study established the dependences of native structure of BSA protein and unsaturated omega-3 fatty acids in model systems on the physical parameters of radiation treatment, using enzymatic hydrolysis. Spectrophotometric and Microscopic methods were employed to evaluate the catalytic activity of the enzyme catalase and the denaturation of starch granules in both model and biological systems after ionizing radiation exposure. Additionally, GC-MS analysis identified volatile organic compounds produced by radiation-induced changes in various biomacromolecules.
Biomacromolecules demonstrate differential radiosensitivity dependent on initial concentration, radiation type, absorbed dose and dose rate. It is shown that different irradiation biomacromolecules exhibit different volatile compound profiles and their radiation-chemical yields. These results may allow to optimize of food irradiation protocols and may also form the basis for the development of biodosimeters for radiation processing control.
This research was funded by the Russian Science Foundation, grant number 22-63-00075.
Bibliography
1. D.A.E. Ehlermann, Radiat. Phys. Chem. 129, 24–29 (2016).
2. E. Kozlova et al., Foods 13(23), 3729 (2024).
3. R. Indiarto R. et al., Foods 12(9), 1845 (2023).
4. J. Bleicher J. et al., Molecules 27(19), 6703 (2022)Speaker: Victoria Ipatova (Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University)
-
121
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Experiment 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Daria Prokhorova (Tsinghua University)-
126
Измерение вероятности распада $J/\psi \to \pi^{+}\pi^{-}\gamma$ и резонансного вклада $f_2(1270)\gamma$
Используя статистику 4.3 миллиона распадов $J/\psi$, набранную детектором КЕДР на ВЭПП-4М, мы определили полную вероятность распада $J/\psi \to \pi^{+}\pi^{-}\gamma$, публикации по которой отсутствуют. Измерено также произведение вероятностей распадов $J/\psi \to f_2(1270)\gamma$ и $f_2(1270)\to \pi^{+}\pi^{-}$. Точность измерения сравнима с точностью, полученной по данным CLEO-c и BES-II.
Speaker: Ольга Резанова (Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН) -
127
Study of the hadronic reactions at the NNbar threshold in the e+e- collision
The CMD-3 detector at the e+e- VEPP200 collider has accumulated ahout 500 pb-1 of the integrated luminosity in the energy region Ec.m.=1--2 GeV, with a special attention to the fine-step scanning of the NNbar threshold. An abnomal behavior of the hadronic cross sections in this reagion was shown previously. In particular, the e+e- -> 6pions cross section demonstrates a sharp 30% drop in the scale of about 1 MeV, comparable with the mass difference in threshold for the proton-antiproton and neutron-antineutron production. In the talk we present an overview of the previous measurements and the latest preliminary results of the fine-step study at the threshold region for the e+e- -> 6pions reaction and other hadronic reactions. Only few of them demonstrate the abnormal behavior.
Speaker: Evgeny Solodov (Budker Institute of Nuclear physics, Novosibirsk, Russia) -
128
Измерение электромагнитных времениподобных формфакторов нейтрона и протона на е+е- коллайдере ВЭПП-2000 с детектором СНД
Работа посвящена измерению процессов e+e- -> n-anti-n и e+e- -> p-anti-p на ускорительном комплексе ВЭПП-2000 с детектором СНД. Приведены новые данне по сечению процессов в области энергии вблизи порга рождения. Представлены предварительные результаты по электромагнитному временеподобному формфактору и отношению |G_E/G_M|.
Speaker: Константин Белобородов (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН) -
129
Study of neutron emission from target fragmentation in Xe + CsI collisions at 3.8 A GeV with a compact TOF spectrometer
The neutron emission from decay of spectators of target nuclei was studied in $^{124}\text{Xe}$ + CsI collisions at energy of 3.8 A GeV using a compact time-of-flight neutron spectrometer of the BM@N facility at Laboratory of High Energy Physics, JINR. The neutron energy spectra were measured at large angles in the energy range of 2 – 200 MeV. The trigger of BM@N experiment efficiently selected the collisions with centrality of < 60%. Common analysis with data from BM@N track detectors helps to select events in different intervals on the collision centrality.
In this report we discuss the characteristics of the TOF spectrometer, the neutron energy spectra obtained and application of a model with three moving sources for description of the measured neutron spectra.Speaker: Nikita Lashmanov (JINR)
-
126
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Theory 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Aleksandr Svetlichnyi (INR RAS, MIPT(NRU))-
130
Объяснение барионной асимметрии в рамках стандартной модели
Если открытый бозон Хиггса с массой 125 ГеВ интерпретировать, следуя гипотезе Фоггата-Нильсена [1-3], как связанное обменом бозоном Хиггса состояние кварков с энергией связи 220 ГэВ, тогда 2t-барионы должны иметь приблизительно ту же массу, что и бозон Хиггса, причём t-кварки 2t-бариона не могут распасться, поскольку масса t-бариона с одним t-кварком больше, чем масса 2t-бариона. Если соотношение 2t-барионов и t-барионов во время сингулярности Большого Взрыва отличаются от соотношения 2t-антибарионов и t-антибарионов, и 2t-антибарионов больше, чем 2t-барионов, тогда после распада и аннигиляции t-кварков останутся только 2t-антибарионы антивещества. Они должны компенсироваться тем же количеством нуклонов вещества. Тяжёлые стабильные 2t-антибарионы могут быстро эволюционировать до стадии чёрных дыр и в мире материи могут “исчезнуть” под сферой Шварцшильда. Это может объяснить как барионную асимметрию видимой Вселенной, так и возникновение массивных чёрных дыр в ранней Вселенной [4].
- C.D. Froggatt, H.B. Nielsen, L.V. Laperashvili, Int.J.Mod.Phys. A 20, 1268 (2005).
- M.Yu. Kuchieve, V.V. Flambaum, E.V. Shuryak, Phys. Rev. D 78, 077502 (2008).
- C.D. Froggatt et al., Int.J.Mod.Phys. A 30, 1550132 (2015).
- I. Juodzbalis et al., Nature 636, 594 (2024).
Speaker: Михаил Косов (Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова) -
131
Динамика кварков в поляронной модели строения нуклонов
Представлена модель возникновения конституэнтной массы кварка в нуклоне, основанная на поляронном механизме в теории движения медленного электрона в ионных кристаллах. Используя ряд явных аналогий между физикой полярона и физикой пион-нуклонных взаимодействий, предложены определённые правила ''полярон/КХД-соответствия''. Далее показано, как в этом подходе можно получить величину массы нуклона.
Литература
1. А.В. Тулуб, ЖЭТФ 41 (1961) 1828.
2. А.В. Тулуб, Вестник Ленинградского университета 22 (1960) 104.
3. Н.И. Каширина, В.Д. Лахно, А.В. Тулуб, ЖЭТФ 141 (2012) 994.Speaker: Сергей Афонин (Санкт-Петербургский государственный университет) -
132
Формулы C, P, T сопряжения операторов поля спиноров
Симметрия $CPT$ играет важнейшую роль в современной квантовой теории поля. Для выхода за пределы Стандартной модели требуется понимание того, будет ли сохраняться или нарушаться $CPT$ симметрия в различных вариантах теорий.
Однако формулы для операторов зарядового сопряжения $C$, пространственной инверсии $P$ и инверсии времени $T$, соответствующие преобразованиям операторов поля спиноров, были получены в период зарождения квантовой теории поля еще до открытия нарушения четности в слабых взаимодействиях. Они часто содержат ошибки либо в самих формулах, либо в их интерпретации. Например, формула $CPT$ сопряжения оператора поля спинора $\psi$ [1]-[4]$ \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, CPT \psi(t,x)(CPT)^{-1} = \eta \gamma^5 \psi^{+T}(-t,-x) \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1)$
является верной в кирально-симметричных теориях. Но при попытке ее использовать для сопряжения оператора поля левокирального нейтрино $\psi_L(t,x)=\frac{1-\gamma^5}{2} \psi(t,x)$, участвующего в электрослабом взаимодействии, мы получим левокиральное антинейтрино, участвующее в электрослабом взаимодействии. Что противоречит как Стандартной Модели, так и экспериментальным данным. Та же проблема возникает с $CP$ сопряжением. Имеется ряд других проблем с формулами $C, P, T$ сопряжений.
Причина этих ошибок связана с некорректностью использования для киральных спиноров оператора $C_{Schw}$ зарядового сопряжения по Швингеру [5], наиболее часто применяемого при рассмотрении $CPT$ сопряжения, так как он меняет киральность оператора поля на противоположную. Кроме того, он антиунитарен. Оператор $C$ зарядового сопряжения, фигурирующий в $CPT$ теореме, унитарен и не меняет киральность операторов поля спиноров. Но из-за того, что для некиральных полей $C_{Schw}\psi(t,x)=C\psi(t,x)$, оператор $C_{Schw}$ ошибочно отождествляют с $C$.
В работе обсуждаются варианты формул $C, P, T$ сопряжений и возможность того, что нейтрино является майораново-подобным фермионом.Работа выполнена при поддержке СПбГУ, шифр проекта 103821868.
- G. Lüders, Annals of Physics, 2(1), 1-15 (1957).
- G. Feinberg, S. Weinberg, Il Nuovo Cimento, 14, 571-592 (1959).
- Дж. Бьёркен, С. Дрелл, Релятивистская квантовая теория. Т. 2, М.: Наука (1978).
- М. Пескин, Д. Шредер, Введение в квантовую теорию поля, Ижевск: НИЦ (2001).
- J. Schwinger,Phys. Rev., 74(10), 1439 (1948).
Speaker: Вадим Монахов (Санкт-Петербургский государственный университет) -
133
Deuteron gravitational form factors, generalized parton distributions, and charge density in the framework of the soft-wall AdS/QCD model
We study gravitational deuteron form factors (GFF) and generalized parton distributions (GPDs) within the soft-wall AdS/QCD model, where deuteron is described by the bulk vector field with twist $\tau=6$. For finite-temperature studies, we apply the soft-wall model, which is thermalized by introducing a thermal dilaton field. The GPDs and charge density are considered in impact parameter (IP) space and at zero and finite temperatures. We plotted the temperature dependence of these quantities in the IP space and observe a decrease in their peaks as the temperature increases. The gravitational root mean square radius obtained here is close to the range given by experimental data for the mass radius and has low sensitivity to the temperature.
Speaker: Minaya Allahverdiyeva (Institute of Physics, Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan) -
134
О волновой структуре вблизи элементарного заряда в теории пространственно-временной плёнки
Рассмотрена нелинейная полевая модель экстремальной пространственно-временной пленки [1,2]. В рамках этой модели были получены точные солитонные решения, которые могут быть сопоставлены фотонам [1,2]. Также исследовались приближения тороидальных солитонов, сопоставляемых элементарным частицам со спином, в частности, заряженным лептонам [3,4].
Было получено точное солитонное решение в собственной сферической системе координат, представляющее собой элементарную заряженную частицу без спина [5]. Мы называем такой солитон сфероном. Рассматриваемый сферон имеет сингулярную сферическую поверхность. Было показано, что дальнее взаимодействие сферонов соответствует электромагнитному взаимодействию точечных зарядов в классической электродинамике [5].
В представляемой работе рассматривается линеаризация модели пространственно-временной плёнки на фоне сферона. Получены уравнения для функций, описывающих сферические волновые моды вблизи сферона в линейном приближении. Исследуются решения этих уравнений в виде асимптотических рядов и соответствующие приближения в виде рациональной и кусочно-полиномиальной аппроксимаций. Рассматриваются вопросы вычисления конечных энергии и спина сферона с волновыми модами.
Исследуется возможность существования дискретного спектра частот рассматриваемых волновых мод. Обсуждается возможность деформации сферической сингулярной поверхности сферона и её трансформации в квази-тороидальную под действием волновых мод.
Рассматривается вопрос об отношении соответствующих солитонных решений к заряженным лептонам.
- A.A. Chernitskii, Lightlike shell solitons of extremal space-time film, Journal of Physics Communications, 2, 105013 (2018).
- A.A. Chernitskii, Lightlike solitons with spin, Journal of Physics: Conference Series, 678, 012016 (2016).
- A.A. Chernitskii, About toroidal soliton-particle of extremal space-time film, Journal of Physics: Conference Series, 1435, 012054 (2020).
- А.А. Черницкий, О лептонах в теории пространственно-временной плёнки. ЭЧАЯ 54, вып. 4, С. 824-838 (2023).
- A.A. Chernitskii, About long-range interaction of spheroidal solitons in scalar field nonlinear model, Journal of Physics: Conference Series, 938, 012029 (2017).
Speaker: Александр Черницкий (Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет)
-
130
-
7. Nuclear medicine РХО ПИБ (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
РХО ПИБ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: А. П. Черняев (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия)-
135
Разработка генератора 99Mo/99mTc для тестирования системы ОФЭКТ
Доклад содержит описание системы ОФЭКТ на базе детектора Timepix с кодирующим коллиматором, разработанной в ЛЯП ОИЯИ. Использование в качестве регистрирующего устройства полупроводникового матричного детектора на основе CdTe и микросхемы считывания Timepix позволяет проводить исследования с использованием многонуклидных радиофармпрепаратов с высоким энергетическим и субмиллиметровым пространственным разрешением на лабораторных животных [1].
Для изучения основных характеристик данной системы использовались калибровочные фантомы и традиционный для таких исследований радионуклид 99mTc, который получали, используя генератор 99Mo/99mTc. Для наработки 99Mo использовали фотоядерный метод [2]. Радионуклид 99Mo получали в реакции 100Mo(γ, n)99Mo путём облучения мишени из обогащённого 100Мо массой 654 мг энергией 23 МэВ при токе 10 мкА непрерывно в течение 6 дней на ускорителе электронов MT-25 в ЛЯР ОИЯИ. Для получения изотопного генератора 99Mo/99mTc мы использовали методику [3], которую оптимизировали для нашего эксперимента. Выход полученного радионуклида для данной конфигурации мишени составил 583 Бк/мкА·мг·ч. Полученный раствор с активностью 100 МБк использовали для заполнения фантомов. В результате были оценены основные характеристики системы ОФЭКТ, а также продемонстрированы возможности 2D и 3D изображений, полученных на калибровочных фантомах.Литература
1. V. Rozhkov, A. Zhemchugov— Visualization of radiotracers for SPECT imaging using a Timepix detector with a coded aperture // Journal of Instrumentation, 15, 2020.
2. А.В. Сабельников, О.Д.Маслов, Л.Г. Молоканова, М.В. Густова, С.Н. Дмитриев. Радиохимия, 2006, 48(2), 172-175с.
3. Михеев Н.Б. и др. Генератор технеция-99м. – Радиохимия, 13. 1971 – 631-633с.Speaker: Илья Чупраков (JINR) -
136
Разработка программных и технических средств оптимизации систем вывода пучка изохронного циклотрона У-150 НИЦ «Курчатовский институт»
Работа посвящена оптимизации системы вывода пучка УНУ «Изохронный циклотрон У-150» НИЦ «Курчатовский институт» [1]. Данный циклотрон является одним из первых в стране циклических ускорителей, запущен в 1947 году, переведен в изохронный режим в 1984 году. Циклотрон обеспечивает возможность ускорения H+ до 35 МэВ, 3He+2 до 70 МэВ, 4He+2 до 60 МэВ. Энергия других многоза-рядных ионов, ускоряемых в циклотроне составляет E = 62 Z2/A [МэВ].
В настоящее время одной из первостепенных задач циклотро-на У-150 является обеспечение наработки медицинского изотопа 123I для клиник Московского региона, которая была начата в начале 1990-ых годов [2]. Для обеспечения стабильного тока и настройки циклотрона были разработаны или восстановлены системы диагно-стики пучка: графитовые пробники внутри правого дуанта, между дуантами, после дефлектора, блоки диагностики с телеустановками в пучковых каналах: перед раздаточным магнитом, после раздаточ-ного магнита, на мишени.
Помимо этого было проведено компьютерное моделирование динамики пучка в циклотроне, включая оптимизацию положения и зазора электростатического дефлектора на основе данных по изме-рению магнитных полей [3] и программных подходов, описанных в [4].
Литература
1. Н.И. Веников, А.Г. Волкович, А.Н. Гущин и др. Изохронный циклотрон: Препринт ИАЭ-2942. — М., 1978, с. 36.
2. Venikov, N. I. et al. Production of High-Purity 123I on IAE Cyclotron // 12th International Conference on Cyclotrons and Their Applications, H08, 1991.
3. Ю.П. Бузулуков, Н.И. Веников и др. Результаты измерений магнитного поля изохронного циклотрона ИАЭ: Препринт ИАЭ-2905. — М., 1977, с. 13.
4. В.Л. Смирнов. Циклотрон и его моделирование. Физика элементарных частиц и атомного ядра, 2021. Т. 52. Вып. 5. С. 1158-1304.Speaker: Илья Попов (НИЦ "Курчатовский институт") -
137
Получение перспективного для ядерной медицины радионуклида 195mPt в фотоядерных реакциях облучением природной платины с применением метода сбора ядер отдачи
Радионуклиды, испускающие Оже- и конверсионные электроны, в настоящее время активно используются в терапии онкологических заболеваний. При наличии подходящего мягкого γ-излучения их применение может соответствовать концепции тераностики, что подразумевает проведение терапии и диагностики в одной медицинской процедуре. Такие радионуклиды известны, например: 67Ga, 117mSn, 123I, 86Y(90Y), 64Cu(67Cu), 124I(131I), 195mPt, и некоторые из них уже успешно используются в клинической практике. 195mPt испускает самое большое количество Оже-электронов на распад среди всех известных медицинских радионуклидов, причём её распад сопровождается γ-излучением, пригодным для визуализации, что делает этот радионуклид идеальным кандидатом для тераностики. Введение 195mPt в цисплатину многократно усиливает терапевтический эффект этой биомолекулы в лечении соответствующих онкологических заболеваний при сохранении цитотоксичности, которая характерна для классической химиотерапии цисплатиной [1]. Однако до сих пор не найден метод получения 195mPt с выходом и удельной активностью, достаточными для соответствия требованиям радионуклидной терапии. В этой работе мы исследуем один из перспективных способов получения целевого радионуклида и метод повышения его удельной активности.
Для получения 195mPt с высоким выходом и удельной активностью мы применяли подход, включающий облучение смеси цисплатины и криптомелана тормозным излучением на микротроне МТ-25 (ОИЯИ, ЛЯР) в соответствии с реакциями 196Pt(γ,n)195mPt и 195Pt(γ,γ’)195mPt и последующий метод сброса носителя. Несмотря на то, что фотоядерный метод является эффективным инструментом для получения изомерных радиоизотопов с высоким выходом, что особенно актуально для ядерной медицины, в нашем случае накопление радиоактивной платины происходит в массе носителя, поэтому необходима дополнительная процедура для увеличения удельной активности требуемого радионуклида. В качестве мишени использовали смесь цисплатины, являющейся источником радиоактивных атомов 195mPt, и криптомелана, выполняющего функцию сборника ядер отдачи, в разных весовых соотношениях: 1:1, 1:2, 1:5, 1:8, 1:10 соответственно. Отделение криптомелана и последующая очистка целевого радионуклида показала, что максимальная удельная активность достигается при соотношении масс цисплатины и криптомелана 1:8, и позволяет значительно увеличить начальную удельную активность с соответствующим химическим выходом 80%.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Национального исследовательского фонда ЮАР совместно с Объединенным институтом ядерных исследований (проект № 22 Радиохимия (часть ЛЯР)).ЛИТЕРАТУРА
1. Zeevaart JR et al., J Labelled Comp Radiopharm. 56:495–503 (2013). https://doi.org/10.1002/jlcr.3091.Speaker: Александр Мадумаров (Объединенный Институт Ядерных Исследований) -
138
Реверсно-тандемные радионуклидные генераторы
Радионуклидные генераторы нашли свое применение во многих областях науки, а также для решения прикладных задач. Особое значение они имеют для ядерной медицины благодаря многократному получению целевых радионуклидов непосредственно в месте их использования [1]. Радиоактивные препараты, полученные по генераторному способу, отличаются высокой удельной активностью и радионуклидной чистотой.
В докладе представлены примеры реализации реверсно-тандемных схем разделения в генераторах: 228Ra→228Ac, 90Sr→90Y, 68Ge→68Ga, 44Ti→44Sc, 140Ba→140La, и др. Реверсная схема разделения предполагает возможность пропускания элюирующего раствора через колонку в двух направлениях, что препятствует значимому перемещению зоны материнского радионуклида по генераторной колонке. Более того, добавление дополнительной колонки (тандема) для сорбции дочернего радионуклида дает возможность получить ее химическую форму, удобную для последующего использования в медицинских целях.Литературные ссылки
[1] F. Roesch et al, Handbook of Nucl. Chem., 1937 (2011)Speaker: Dr Дмитрий Философов (Объединенный институт ядерных исследований) -
139
Двукапсульные неорганические наноконтейнеры для направленной транспортировки альфа-излучателей
Проведенные нами ранее эксперименты показали [1], что создание радиофармпрепаратов направленного действия на основе альфа-излучателей с использованием традиционных подходов (биологически активная молекулярная конструкция с хелатным узлом, несущим радиоактивную метку – например, меченая DOTA) – научная мистификация: образовавшиеся в результате распада ядра отдачи разрушают соседние молекулы-носители, что полностью исключает направленный транспорт препарата.
Успех в создании лекарственных форм на основе альфа-излучателей возможен только в том случае, если каким-либо образом удается «нивелировать» пагубное действие ядер отдачи – например, за счет использования неорганических соединений («наноконтейнеров») с высокой радиационной устойчивостью [2].
С учетом результатов проведенных работ [1, 2] для надежной «консервации» терапевтических радионуклидов и их дочерних продуктов предложены двукапсульные наноконструкции с диаметром частиц от 40 до 160 нм (в зависимости от длины радиоактивной цепочки), в ядро которых малого (до 20 нм) размера (магнетит, оксиды и фосфаты металлов, пр.) помещена радиоактивная метка, а оболочка из материала с высокой радиационной устойчивостью (предпочтительнее металлическая) способна задерживать ядра отдачи.
В настоящей работе в качестве модельного материала нами был выбран магнетит с диаметром частиц 12-18 нм.
Вместо радия-223 (на основе которого компанией Bayer Pharma AG изготовлен препарат Xofigo) использовалось радиоактивное семейство тория-228, имеющее такой же ряд последовательных альфа-распадов, как у 223Ra, при этом наличие в генетической цепочке распадов 212Pb с достаточно большим периодом полураспада (10.6 часа) позволяет «фиксировать» изменения, связанные с нарушением радиоактивного равновесия.
Проведенные эксперименты показали, что для удержания ядер отдачи, образующихся в результате распада 228Th и его дочерних продуктов, необходимы золотые покрытия толщиной не более 75 нм; при этом потери энергии альфа-частиц в слое золота составят около 50 кэВ (менее 1% исходной энергии альфа-частиц).
Наночастицы такого типа, модифицированные специфическими биомолекулами, могут стать основой для создания широкого спектра лекарственных форм направленного действия на основе 223Ra, 225Ac, 227Th и других альфа-излучателей.- I. Alekseev, A. Miroslavov, E. Stepanova Post-effects of radioactive decay in ligands on biologically active transport platforms // Radiation Physics and Chemistry, 2019, 162, pp. 96-106.
- I. Alekseev, A. Miroslalov. Post-effects of radioactive decay in magnetite nano-crystals labelled with Auger- and internal conversion electron-emitters, alpha- and beta decay radionuclides // Radiation Physics and Chemistry, 2020, 177, 109160.
Speaker: Игорь Алексеев (Радиевый институт имени В. Г. Хлопина)
-
135
-
9. Poster Session Атриум (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Атриум
Санкт-Петербургский Государственный Университет
-
140
Предварительная калибровка прототипа антенного модуля радиоинтерферометра МИФИst с использованием пульсара в Крабовидной туманности
Крабовидная туманность представляет собой газообразную туманность в созвездии Тельца, отождествляющаяся с остатком взрыва сверхновой. Отличительной особенностью туманности является наличие в центре пульсара Crab Pulsar, испускающего периодические импульсы в радиодиапазоне и являющимся мощнейшим источником подобного излучения в Галактике. Данные параметры являются решающими для проведения калибровки радиотелескопов, делая достаточным использование стандартной лабораторной аппаратуры. В докладе обсуждается методика предварительной калибровки радиоинтерферометра МИФИst по радиоимпульсам Крабовидной туманности на частотах 1,4, 4,15 и 4,85 ГГц как наиболее оптимальные для проведения калибровки [1]. Принципиально процесс калибровки может быть разделен на 3 этапа. Первая стадия заключается в записи сигнала и измерении RSSI с SDR приемника HackRF H4M, установленного в фокусе параболической сетчатой офсетной антенны AX-Offset D90, с включенным генератором шума (ГШ) с известной выходной мощностью. Последующий этап проводится аналогичным методом уже с выключенным ГШ, после чего полученное значение разности между между двумя показаниями используется как калибровка. По мере накопления достаточного объема информации вычисляется неэкстенсивный индекс q [2], удаляются сигналы от мобильных операторов, а также иные шумы, влияющие на чистоту принимаемого сигнала проводится параметризация данных и строятся графики распределения значений мощности для заранее выбранных частот, после чего проводится анализ полученного сигнала по известным значениям периода и яркости источника PSR B0531+21 [3, 4]. Предложенный метод предварительной калибровки ограничен временем сбора данных. Так, наиболее благоприятным считается период ноябрь-февраль в поздний вечер и ночь [5].
В перспективе представленный метод будет использован для прототипа радиоинтерферометра МИФИst, в научные задачи которого входит изучение радиоизлучения галактики, транзиентных источников, Солнца, а также быстрых процессов в астрофизических источниках [6].Список литературы:
1. Eilek J. A., Hankins T. H. //Journal of Plasma Physics. – Т. 82. – №. 3. – С. 635820302 (2016)
2. Razdan A. //arXiv preprint arXiv:1206.6210 (2012)
3. Crab-pulsar data [Электронный ресурс] https://github.com/acrerd/Crab-pulsar-data
4. Radio Parallax of the Crab Pulsar Data Release [Электронный ресурс] https://zenodo.org/records/7910778
5. Crab-pulsar star facts [Электронный ресурс] https://www.universeguide.com/star/122592/crabpulsar
6. Архангельская И.В., Виноградская А.В., Зарипов И.Д. и др. // XI Международная конф. ЛАПЛАЗ-2025. Сб. научн. тр.. С. 372. (2025)Speaker: Илья Зарипов (НИЯУ МИФИ) -
141
Deformed nuclear shells in mass and energy distributions of fission fragments of 240Pu* compound nucleus in 236U(α,f) reaction at alpha particle energy of 29 MeV
To study presence and influence of deformed nuclear shells we measured mass and energy distributions of fission fragments of 240Pu* compound nucleus in 236U(α,f) reaction at incident alpha particle energy of 29 MeV which is at coulomb barrier for this reaction. Measurements were carried out with 2E method at U-150M accelerator at the Institute of Nuclear Physics, Almaty city, Kazakhstan. Acquired mass and energy distributions were decomposed into yield of separate fission modes with sensitive decomposition method taking into account deformed nuclear shells. The results show influence of deformed nuclear shells Z52, N84, N88 on mass and energy distributions of fission fragments.
Speaker: Kirill Kovalchuk (Laboratory of Fission Physics, Institute of Nuclear Physics, Almaty) -
142
Deposited dose during a radiological examination: Monte Carlo simulations
Radiological examinations are essential for medical diagnostics, but understanding dose deposition is crucial for patient safety. This study employs Monte Carlo simulations with MCNP to analyze photon dose deposition in biological tissues. Additionally, a self-developed Fortran program is validated through comparison with MCNP results. A cylindrical phantom representing a child's thorax is modeled using water as a tissue-equivalent material, then refined with an HCNO-based composition for greater accuracy. The study examines dose variations across different tissues, considering their atomic composition, density, and photon interaction mechanisms. Results highlight the significant impact of tissue heterogeneity on radiation dose distribution. The strong agreement between the Fortran program and MCNP confirms the accuracy of our approach, emphasizing the need for material-specific dosimetric calculations to optimize radiological protocols and improve patient safety while maintaining imaging quality.
Speaker: Mr Omar EL BASRAOUI (Faculty of Sciences Rabat) -
143
Role of Surface energy coefficient in α decay of residual nucleus 214U formed via 36Ar Induced Reaction
The α decay is a fundamental nuclear process where an unstable heavy nucleus emits an α particle, along with a complementary daughter nucleus. The comprehensive understanding of this dominant radioactive decay imparts useful insights for better understanding of nuclear stability and related aspects [1].
In this study, we have investigated the α decay of residual nucleus 214U formed in the fusion evaporation reaction 182W(36Ar,4n)214U reaction, using the Dynamical Cluster Decay Model (T ≠ 0) [2]. We have employed 13 sets of surface energy coefficients (γ0) and corresponding surface asymmetry (Ks) [3] on the alpha decay characteristics of ²¹⁴U.
Our results show that the calculated α-decay half-lives with different sets of surface energy coefficient (γ0) and surface symmetry term (Ks), show decent agreement with experimental data [4] at the optimized neck length parameter. The neck length parameter increases almost linearly with the surface energy coefficient at the corresponding Ks values taken from ref [3]. For further exploration, we have performed two sets of calculations: one using the average value of Kₛ within each γ₀, and another using the average value of γ₀ within each Kₛ. The first approach gives a better agreement with experimental data, highlighting the dominant role of the surface energy coefficient (γ₀) in the α-decay process. This work offers an understanding of the sensitivity of α decay observables to the nuclear surface properties. We are in process to extend the analysis to the α-decay chain of 214U including the nearby isotopes (e.g. ,215U,216U and 218U) to investigate the robustness of this behavior across the α decay chain of the residual nucleus and corresponding radioactive isotopes for better understanding of the α-dynamics.Speaker: ASHUTOSH KAUSHIK (Thapar Institute of Engineering & Technology Patiala Punjab) -
144
Study of structural, electronic and magnetotransport properties of functional materials based on cobalt oxide, irradiated to improve operational characteristics in ultra-high-frequency spintronics devices
This work is aimed at a comprehensive experimental study of exchange interactions, magnetotransport phenomena, spin and phase transitions in magnetic semiconductors, including complex cobalt oxides. It is assumed that samples were irradiated with electron and ion accelerator beams, followed by a study of the modified properties.
The research covers the investigation of functional materials exposed to new sources of strong pulsed magnetic fields, ion and electron irradiation with controlled dose, energy and pulse duration.
These compounds exhibit a variety of physical phenomena such as spin crossover, giant magnetoresistance, insulator-metal transition, orbital ordering, ferroelectric and magnetoelectric effects, structural phase transitions.
The study of such phenomena is one of the leading areas of modern physics of radiation materials science, both fundamental and applied. It should be noted that the microscopic mechanisms of formation of the properties of complex cobalt compounds remain poorly understood.
Modification of the structure and magneto-transport properties of ferro- and antiferromagnetic materials will be carried out at the NICA accelerator complex at the irradiation stations of the SOCHI station with an energy from 3.2 MeV/nucleon to 4 GeV/nucleon with intensities from 10^3 to 10^9 particles/sec, a pulse duration of 4 μs.
Preliminary results show that irradiation leads to a structural transformation in the studied compounds, including isotropization of the crystal structure and transition to a ferromagnetic phase with dose. However, the influence of irradiation parameters on the stability of the effect remains unclear.
The results of the studies would help us to reveal the relationship between lattice, electron and magnetic degrees of freedom, which would open opportunities for controlling their physical and chemical properties and creating new functional materials for their use.Speaker: Ekaterina Klevtsova (Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, Moscow region, Russia) -
145
Temporal variation of radon emanation and its relationship with natural external factors
Monitoring radon concentration in the ground layers of the atmosphere of the human habitat is one of the urgent tasks in the field of radioecology and health care. Within the framework of the Sustainable Development Goals, healthy lifestyles, and promotion of well-being for all at any age, the UN declares the need for radon monitoring to assess the impact of this radioactive gas on public health [1]. As is known [2-4], the concentration of radon in the ground layers of the atmosphere is periodic and influenced by seasonal factors, as well as other factors depending on the Earth's position in space, the Sun, and the Moon. In addition to periodic components, radon activity contains elements that do not obey this pattern. In particular, such non-cyclic time variations in radon activity can also be formed due to earthquakes [5].
In this paper, the authors present data on the equivalent equilibrium volumetric activity (EEVA) of time variations of Rn-222 in the atmospheric surface layer, measured continuously in automatic mode over a period of 2.5 years with a measurement interval of 35 minutes. The measurements were carried out at the Faculty of Physics and Technology (al-Farabi Kazakh National University, Almaty), the building of which, according to the Institute of Seismology (Almaty), is located near a tectonic fault.
Autocorrelation was performed based on the obtained data, and correlation dependencies with solar activity data, cosmic rays, and earthquakes during the same period were calculated. The most probable temporary external factors influencing the activity of radon EEVA in the ground layer of the atmosphere of the human habitat eco-environment were identified. This, in turn, allowed for the estimation of the contribution to the annual effective dose of the population due to natural radiation from radon and its daughter decay products.
This research is funded by the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP23486701).- Sustainable Development Goals (SDGs). – URL: https://www.undp.org/sustainable-development-goals.
- Sevostyanov V.N. The Problem of Radon Safety in Kazakhstan. – Almaty, 2004. – 212 p.
- Dyachkov V.V., Zaripova Yu.A., Yushkov A.V., Shakirov A.L., Bigeldiyeva M.T., Dyussebayeva K.S., Abramov K.E. Periodic variations in time of atmospheric radioactive nanoparticles // Physical sciences and technology. – 2017. – Vol. 4(1). – P. 20-26.
- Dyachkov V.V., Biyasheva Z.M., Komarov A.A., Zaripova Yu.A., Shakirov A.L., Yushkov A.V., Khamdieva O. Kh., Sysoev V.A. Experimental observation of four-day variations of radon emanation caused by moon phases // Recent Contributions to Physics. – 2016. – Vol. 1, No. 56. – P. 120-128.
- Outkin V.I., Yurkov A.K., Kridasheev S.V. Dynamics of radon concentration in soil for predicting earthquakes. Proc. Third Eurosymposium on Protection against Radon // Liege. – 2001. – P. 137-141.
Speaker: Yuliya Zaripova (al-Farabi Kazakh National University) -
146
Измерение сечений образования медицинских радиоизотопов лантана в ядерных реакциях под действием протонов и альфа-частиц
Радиоизотопы лантана являются перспективными для использования в ядерной медицине, однако на сегодняшний день изучены недостаточно [1]. Для терапевтического применения интересен испускающий Оже-электроны La-135 (T1/2=19,5 ч). Испускающие позитроны La-132 (T1/2=4,8 ч) и La-133 (T1/2=3,91 ч) рассматриваются в качестве диагностической пары к терапевтическим La-135 и Ac-225 [2]. Для внедрения нового радионуклида в медицинскую практику необходимо обеспечить его эффективные пути производства, что невозможно без надежных ядерно-физических данных, таких как сечения ядерных реакций.
В данной работе были экспериментально измерены сечения образования радиоизотопов лантана в реакциях под действием альфа-частиц с энергией до 60 МэВ на ядрах бария природного изотопного состава и ядрах Cs-133 и в реакциях под действием протонов с энергией до 30 МэВ на ядрах Ba-135 и Ba-136. Облучения мишеней проводились на циклотроне У-150 (НИЦ «Курчатовский институт»). Для расчета активностей использовались гамма-спектрометрические методы. В результате работы получены новые экспериментальные ядерно-физические данные: расширен экспериментально исследованный энергетический диапазон для реакций на ядрах Ba-135, Ba-136, Cs-133; впервые получены сечения образования La-135 и La-140 в реакциях под действием альфа-частиц на ядрах бария природного изотопного состава и сечения образования La-132 в реакциях под действием альфа-частиц на ядрах Cs-133. На основе расчетов выходов реакций проведена оценка пригодности предложенных методов получения радиоизотопов лантана и их сопоставление с альтернативными способами получения.Speaker: Ирина Хоменко (НИЦ "Курчатовский институт") -
147
Изучение структуры криптомелана, используемого для выделения перспективных для ядерной медицины изотопов Pt
Природный криптомелан K2(Mn4+,Mn2+)8(O,OH)16 относится к группе голландитовых гидроксидов, обладающих туннельной структурой, образованной двойными и тройными цепочками октаэдров Mn4+. В центре данной структуры находятся более крупные катионы (K, Pb, Ba, Mn2+), определяющие размер трубчатой структуры, и, соответственно, обеспечивающие высокую ионо-обменную селективность к ионам, имеющим определенный эффективный ионный радиус. Радиус пор криптомелана - 1,3–1,5 Å делает его перспективным материалом для сбора ядер отдачи изотопов Pt. В результате облучения смеси цисплатины с криптомеланом тормозным излучением микротрона МТ-25 (ЛЯР, ОИЯИ) получаются перспективные для Оже-терапии изотопы платины 191,193m,195mPt, а последующее отделение криптомелана позволяет увеличить их удельную активность.
Криптомелан был получен добавлением раствора 0,5 М KMnO4 в 1 M H2SO4 к равному объему раствора 1 М MnSO4 в 1 М H2SO4 при 60 ᵒC и перемешивании [1]. После охлаждения смеси производили разделение осадка и раствора фильтрованием через ядерную мембрану с диаметром пор 1 µm.
Фазовый анализ полученного порошка был выполнен методом рентгеновского анализа на модифицированном дифрактометре ДРОН-4 (съемка, управляемая компьютером) при следующих условиях съемки: излучение Cu (λ=0,154178 нм), 2θ=10–100°, Δ2θ=0,1°, τ=4 с. Подгон параметров решетки тетрагональной фазы и размытия рефлексов показал, что образец практически на 100% состоит из тетрагональной фазы типа K0,33MnO2 (tI28/23) с периодами решетки: а=0,9811 нм, с=0,2843 нм. Установлено, что размер области когерентного рассеяния (ОКР) вдоль кристаллографической оси с составляет примерно 150±50 нм, перпендикулярно оси с – 7,5±0,5 нм, т.е. кристаллиты имеют сильно вытянутую вдоль оси с форму; микродеформации в направлениях, параллельных и перпендикулярных оси с – 0,18±0,01%.
Результаты исследований в растровом электронном микроскопе подтверждают эти данные. На фотографии образца (Рис.1) видно, что действительно кристаллиты сильно вытянуты и имеют игольчатую морфологию с высоким аспектным отношением.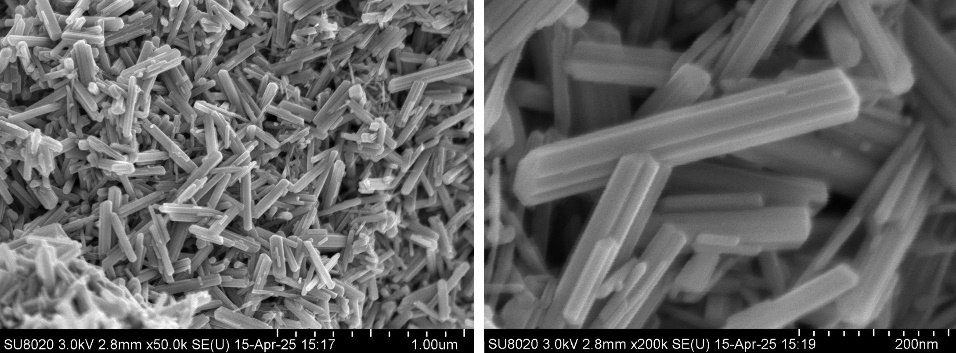
Рис.1. Фотография образца криптомелана, полученная при помощи растрового электронного микроскопа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Tsujl M., Abe M. Synthesis of cryptomelane-type hydrous manganese dioxide//Solvent Extraction and Ion Exchange, 1984.Vol. 2, №2. P. 253-274Speakers: Александр Мадумаров (ОИЯИ), Марина Густова (ОИЯИ) -
148
Исследование никелида титана с применением ЯСМЗ
При разработке конструкционных и функциональных материалов нового поколения особое внимание уделяется формированию различных наноразмерных особенностей структуры, так как этим может быть обеспечено повышение механических, радиационной стойкости и других эксплуатационных свойств. В последние годы развиваются современные подходы и методы исследования микро- и наноструктурированных материалов. В связи с этим, нами отработан и был успешно применен комплексный подход, включающий совместное использование атомно-силовой микроскопии (АСМ) и ядерно-сканирующего микрозонда (ЯСМЗ) в диагностике и исследовании современных материалов разной природы [1,2]. На выходе после комплексного исследования (АСМ+ЯСМЗ) имеем данные о «составе-структуре-свойствах» материала. Данный подход был применен в исследовании образцов никелида титана (ТiNi), полученных по аддитивной технологии. Материал обладает памятью формы и рассматривается как перспективный материал в атомной отрасли. Спектры RBS получены на установке «Микрозонд ЭГП-10». С помощью специального алгоритма обработки первичных спектров RBS были получены суммарные карты с цветовым кодированием каждого из присутствующих в материале элементов, которые сопоставлялись с картами топографии, модуля упругости и адгезии, снятые на сканирующем зондовом микроскопе Solver Next производства НТ МДТ г. Зеленоград. Результаты исследований по данному алгоритму позволили выявить природу включений и объяснить причины изменения микромеханических свойств ТiNi после термообработки.
1. М.Э. Бузоверя и др., Яд. Физ. Инж. 8, 1 (2017).
2. A.A. Arkhipov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 87, 1737 (2023).Speaker: Марина Бузоверя (Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики) -
149
Ксеноновый гамма-спектрометр колодезного типа
В современной ядерной медицине используются гамма-спектрометры колодезного типа. Эти приборы позволяют измерить основные характеристики радиоактивных изотопов (активность и изотопный состав), используемых для диагностики и терапии онкологических заболеваний. В настоящее время для этой цели используются сцинтиляционные и полупроводниковые гамма-спектрометры колодезного типа [1, 2]. Первые из них обладают низким энергетическим разрешением, что затрудняет идентификацию изотопного состава исследуемых образцов. Вторые обеспечивают рекордное энергетическое разрешение, но функционируют при криогенных температурах, что ограничивает их применение. К тому же они характеризуются низкой радиационной стойкостью [2].
В докладе представлен обзор ксенонового гамма-спектрометра колодезного типа. Основой этого прибора является цилиндрическая импульсная ионизационная камера с экранирующей сеткой. В качестве рабочего вещества используется сжатый ксенон (давление 40 атмосфер). В центре ионизационной камеры расположен колодец, в котором могут размещаться исследуемые радиоактивные фармпрепараты. Такая конструкция детектора существенно увеличивает светосилу прибора. Телесный угол, в котором регистрируются гамма-кванты, составляет почти 4π.
Конструкция прибора была разработана с помощью параметрической системы автоматизированного проектирования (САПР FreeCAD). Методом Монте-Карло (пакет Geant4) проведены модельные эксперименты для определения основных физических характеристик создаваемой аппаратуры. В качестве гамма-источника использовался смоделированный радиоизотоп Ba-133. Получена зависимость эффективности регистрации гамма-квантов от их энергии для КГС-КТ, а также от места расположения точечного радиоактивного фармпрепарата внутри колодца. Проведен анализ полученных расчетных результатов и рассмотрена возможность использования данной аппаратуры в области ядерной медицины. На создаваемый прибор получен патент на полезную модель. [3].
К настоящему времени изготовлено большинство сборочных единиц, предназначенных для дальнейшей сборки спектрометра.[1] Seekamp J.M., Noey J.D., Kwapis E.H., Chung L.K., Shubayr N.A., Smith T., Trimas D.J., Kearfott K.J. Design and Characterization of an Extremely-Sensitive, Large-Volume Gamma-Ray Spectrometer for Environmental Samples. Health Phys., vol. 119, no. 2, pp. 252–260, 2020.
[2] Díaz-Asencio M., Sanchez-Cabeza J.-A., Ruiz-Fernández A.C., Corcho-Alvarado J.A., Pérez-Bernal L.H. Calibration and use of well-type germanium detectors for low-level gamma-ray spectrometry of sediments using a semi-empirical method. J. Environ. Radioact., vol. 225, p. 106385, 2020.
[3] Патент РФ на полезную модель № 200652 от 03.11.2020. Ксеноновый гамма-спектрометр колодезного типа.Speaker: Роман Егоров (НИЯУ МИФИ) -
150
Макет антенного модуля радиоинтерферометра МИФИst
Обсуждается возможность использования параболических сетчатых офсетных антенн AX-Offset D90 для создания макета основного антенного модуля(МОАМ) радиоинтерферометра МИФИst.
Цель создания радиоинтерферометра МИФИst [1] - изучение быстрых процессов в космических источниках, в т.ч. в Солнце, в диапазоне излучения от 0.95 (31.5 см) до 6 ГГц (5 см). Изучение радиоизлучения в спектральной линии нейтрального водорода НI 21 см (1420,40575 МГц) при различных красных смещениях z, например, от галактик и протогалактик на космологических расстояниях, сделает возможным выявление новых принципов для построения новой уникальной шкалы (кроме сверхновых и CMB [2]) Gal_z для H0-tension. В рамках работы также будут изучаться свойства магнетаров, вариативность периода некоторых радиоизлучающих пульсаров. В Галактике будут исследованы радиогало, Sgr A, дискретные источники, облака нейтрального Н.В сотрудничестве с Многоволновым радиогелиографом НГЦ РАН [3] будут проведены анализ механизмов ускорения e-, вспышечного нагрева плазмы и переноса энергии, исследование ударных волн и эволюции крупномасштабных структур в атмосфере Солнца. Также будет внесен большой вклад в развитие методов мониторинга активности Солнца. Результаты будут публиковаться в ведущих базах данных Visier, NED и т.д.
В работе обсуждается разработка МОАМ радиоинтерферометра МИФИst, основу которого - параболическая сетчатая офсетная антенна AX-Offset D90, начатая в [4]. Ключевые отличия установки от аналогов заключаются в её компактных размерах, мобильности, малой затененности полезной площади тарелки и доступности комплектующих. Была устранена проблема неустойчивости модуля при повороте антенны, моторизирована схема поворота антенны для наведения на исследуемые объекты и непрерывного наблюдения по их координатам высоты и азимута. В модели предусмотрено место под электронику и двигатели, разрабатывается система обработки сигнала и ПО для управления положением антенны и сбора данных. В настоящее время проведена калибровка приемника на частоте 1 ГГц и продемонстрировано возрастание принимаемого сигнала при направлении антенны на Солнце.
Список литературы:
1. Архангельская И.В., Виноградская А.В., Зарипов И.Д. и др. // XI Международная конф. ЛАПЛАЗ-2025. Сб. научн. тр.. С. 372. (2025)
2. D'Agostino R., Nunes R. // Phys. Rev. D. V. 108. #2. id.023523 (2023)
3. Алтынцев А. Т., Лесовой С.В. Глоба М.В. и др // Солнечно-земная физика. Т. 6. №. 2. С. 37-50. (2020)
4. Виноградская А. В., Воскобойников Д. О., Зарипов И. Д. и др // Сборник избранных тезисов работ лауреатов III Зимней научной сессии СНО НИЯУ МИФИ. С.13-14 (2023)Speaker: Анна Виноградская (НИЯУ МИФИ) -
151
Математическое моделирование измерительного канала автоматизированного погружного спектрометра для глубинного радиационного мониторинга акваторий
Предприятием УП «АТОМТЕХ» разработан спектрометр МКС-АТ6104ДМ [1], предназначенный для поиска и обнаружения источников гамма-излучения и потока нейтронов в водной среде, измерения энергетического распределения гамма-квантов, идентификации гамма-излучающих радионуклидов, обеспечения радиационного мониторинга пресной и морской воды в геометрии измерения 4Pi и донных отложений в геометрии измерения 2Pi.
Спектрометр представляет собой многофункциональный комплекс, состоящий из устройства детектирования, лебедки электронно-механической (ЛЭМ) с установленным на ней кабелем-тросом, блока питания ЛЭМ, модуля управления спектрометром, приемника глобальной навигационной спутниковой системы, кабелей питания, передачи данных и специализированного программного обеспечения. Устройство детектирования спектрометра может погружаться на глубину до 100 м. В устройстве детектирования (измерительном канале) спектрометра применяется спектрометрический детектор NaI(Tl) размерами Ø 63×63 мм и фотоэлектронный умножитель, охваченные системой светодиодной стабилизации измерительного тракта, а также системой автоматической термокомпенсации его параметров.
В данной работе представлены результаты математического моделирования методом Монте-Карло [2] эффективности регистрации спектрометра в энергетическом диапазоне 70–3000 кэВ (геометрия измерения 4Pi), а также результаты исследования возможности обнаружения спектрометром потока нейтронов методом регистрации гамма-излучения, образующегося в результате реакции нейтронного захвата на ядрах H, O, Na и Cl (Prompt Gamma Rays Neutron Reaction) [3].- Руководство по эксплуатации «Спектрометр МКС-АТ6104ДМ» ТИАЯ.412155.012 РЭ.
- Briestmeister J.F. Ed. MCNP- A general Monte-Carlo N-particle transport code, Version 4A. Report LA-12625-M, Los Alamos. NM, Los Alamos National Labo-ratory, 1994.
- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Database of Prompt Gamma Rays from SlowNeutron Capture for Elemental Analysis, Non-serial Publications , IAEA, Vienna (2007).
Speaker: Андрей Ничипорчук (Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ», г. Минск, Республика Беларусь) -
152
Методика калибровки радиоинтерферометра МИФИst на основе солнечных вспышек
В докладе представлена методика калибровки радиоинтерферометра МИФИst по солнечным вспышкам. Радиоинтерферометр представляет собой 2 ветки, в каждой из которых по 2 Г-образных антенны из нескольких десятков антенных модулей. Каждый модуль основан на параболической сетчатой офсетной антенне AX-Offset D90, закрепоенной на моторизированной альт-азимутальной монтировке [1]. Рабочий диапазон от 0,95 до 6 ГГц. Задачами радиоинтерферометра МИФИst является изучение радиоизлучения от астрофизических источников, включая Солнце, Совместно с Многоволновым радиогелиографом НГЦ РАН [2].
Предлагаемая методика использует сведения из открытых баз данных спутников GOES и радиообсерватории Nobeyama [3, 4]. На первом этапе для зарегистрированных радиовсплесков обсерватории Nobeyama в трех частотных каналах 1, 2 и 3.75 ГГц за период с 2003 по 2012 год отбираются подходящие по времени события, выделенные системой спутников GOES. На втором этапе начинается сбор информации от антенного модуля радиоинтерферометра МИФИst. Прибор наводится на Солнце в периоды повышенной солнечной активности из разных точек пространства с сохранением азимутального угла на частотах в 1, 2, 3.75 ГГц. Третий этап методики включает в себя обработку и анализ информации. Данные, полученные во время работы антенного модуля, сопоставляют с моментами начала, пика и окончания солнечных вспышек из открытого каталога событий GOES. Полученные значения диапазонов интенсивности событий сравниваются с диапазонами интенсивностей по Nobeyama в соответствующих каналах. После накопления достаточного объема данных создаются графики зависимости интенсивности события в радиодиапазоне от класса GOES и выполняется их сравнение с графиками, полученными в ходе обработки информации по Nobeyama.На завершающем этапе методики выполняется предварительная калибровка антенного модуля радиоинтерферометра МИФИst, удаление шумов и постобработка результатов наблюдений.
1. Архангельская И.В., Виноградская А.В., Зарипов И.Д. и др. // XI Международная конф. ЛАПЛАЗ-2025. Сб. научн. тр. 2025. С. 372. (2025).
2. Алтынцев А. Т., Лесовой С.В., Глоба М.В. и др // Солнечно-земная физика. Т. 6. №. 2. С. 37-50 (2020).
3. Nobeyama Radio Polarimeters Event List 1988-2015.[Электронный ресурс] https://solar.nro.nao.ac.jp/norp/html/event/
4. SolarSoft Latest Events Archive since 2002. .[Электронный ресурс] https://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events_archive.htmlSpeaker: Елизавета Рудакова (НИЯУ МИФИ) -
153
Методика определения примесей радионуклидов в сыпучих пищевых продуктах
Мониторинг содержания примесей радионуклидов в экосреде обитания человека является одной из важных и приоритетных задач в области радиоэкологии и здравоохранения. Так, например, ООН в рамках поставленных целей устойчивого развития, здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте, декларирует о необходимости мониторинга радона для оценки воздействия этого радиоактивного газа на здоровье населения [1]. Однако, необходимо контролировать и другие радионуклиды, которые поступают в организм человека с продуктами питания и могут вносить достаточный вклад в общую поглощенную дозу населения и соответствующую дозовую нагрузку на органы пищеварительной системы человека, что повышает риски возникновения радиогенного рака. Помимо радона и дочерних продуктов его распада выполняется мониторинг природного радионуклида 40-K, который, имея большой период полураспада, широко распространен в почве и, как правило, попадает в пищевые продукты, также и в том числе, за счет калийных удобрений. Кроме этого, существует потребность контроля техногенных радионуклидов образовавшихся испытаниями ядерного оружия, которые проводились в прошлом веке. Последнее ядерное испытание на Семипалатинском полигоне датировано 19 октября 1989 года и прошло почти 36 лет, что соизмеримо с периодом полураспада долгоживущих осколков деления ядерного заряда. Таким образом, изучение уровней содержания 137-Cs и 90-Sr [2], которые имеют период полураспада около 30 лет, в продуктах потребления населением позволят учесть также и техногенный вклад в поглощенную дозу [3].
В данной работе была разработана гамма-спектрометрическая методика по определению примесей радионуклидов в сыпучих пищевых продуктах и получены оценочные данные (мука пшеничная, крупа гречневая, рис) от разных производителей в Республике Казахстан и России. В результате спектрометрических измерений в спектрах образцов были выявлены гама-линии дочерних продуктов распада радона 214-Pb, 214-Bi, 210-Pb, а также 40-K и 137-Cs. Концентрации исследуемых радионуклидов не превышают установленных норм [4,5]. На основании данных измерений были вычислены вклады в общую годовую поглощенную дозу с учетом норм [6] годового потребления исследуемых продуктов населением Республики Казахстан и Российской Федерации.
Работа выполнена в рамках проекта ИРН AP23486701 финансируемого Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.- Sustainable Development Goals (SDGs). // https://www.undp.org/sustainable-development-goals
- И. Я. Василенко, О. И. Василенко. Биологическое действие продуктов ядерного деления // Москва, 2011.–384 с.
- Б.А. Тулеубаев, А.Ж. Агибаева, К.К. Алибекова. Радиационная экспертиза пищевых продуктов // Учебно-методическое пособие, Павлодар, 2017.– 87 с.
- Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности // Министерство здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-71
- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) // Санитарные правила и нормативы, СанПин 2.6.1.2523-09, 2009 г.
- Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Республики Казахстан // Бюро Национальной статистики по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. https://stat.gov.kz/
Speaker: Вячеслав Дьячков (Воронежский государственный университет) -
154
Методы ядерной спектроскопии для определения малых концентраций Pu и U в присутствие Th и Np
Проводился анализ продуктов в эксперименте по экстракции плутония и урана из раствора, содержащего также торий, америций, нептуний и некоторые другие элементы (не актиноиды).Для выяснения достоверной картины содержания всех актиноидов в образцах необходим их анализ при помощи гамма-спектрометра высокого разрешения и альфа-спектрометра. В докладе будет рассказано о методике совместной обработки альфа- и гамма-спектров, использованной в данном эксперименте, а также о возможностях автоматизации этого процесса, приведены альфа- и гамма-спектры некоторых образцов, и примеры количественного анализа многокомпонентных растворов актиноидов после эксперимента по экстракции.
Speaker: Константин Ершов (Радиевый институт им. Хлопина) -
155
Определение характеристик нейтронного излучения блоком детектирования БДКН-06 с набором сферических замедлителей
Для наиболее корректной оценки дозовых нагрузок на персонал от нейтронного излучения необходимо иметь информацию об энергетическом распределении плотности потока нейтронов на конкретном рабочем месте. По восстановленному энергетическому распределению можно внести поправки в показания индивидуального дозиметра, закрепленного за персоналом на данном рабочем месте [1].
Блок детектирования нейтронного излучения БДКН-06 представляет собой 3He-счетчик, помещенный в полиэтиленовый модератор в форме сферы. Конструкция БДКН-06 позволяет последовательно измерять скорость счета импульсов со сферами-модераторами с диаметрами от 3 до 12 дюймов. Измерения проводятся согласно разработанной методике измерений МТ АААА.7031.004-2020 «Восстановление энергетического распределения плотности потока нейтронного излучения. Определение средней плотности потока нейтронного излучения» [2].
Методическое обеспечение с применением специального математического алгоритма позволяет на основе измеренных скоростей счета импульсов с каждой сферой получить энергетическое распределение плотности потока нейтронного излучения.
Полученный в соответствии с методикой результат восстановления энергетического распределения плотности потока нейтронного излучения используют для вычисления таких величин как: интегральная плотность потока нейтронов, средняя энергия нейтронного излучения по спектру, средняя энергия нейтронного излучения по дозе, эквивалент дозы на единичную плотность потока, эквивалент дозы, эффективная доза.
Математический алгоритм реализован в прикладном программном обеспечении с дружественным для пользователя интерфейсом в качестве приложения к методике измерений.Литература
- Пышкина, М. Д. Дозиметрия нейтронного излучения на рабочих местах персонала АО «Институт реакторных материалов» / М. Д. Пышкина, А. В. Васильев, А. А. Екидин, Е. И. Назаров, М. А. Романова, В. И. Гуринович, Д. И. Комар, В. А. Кожемякин // Радиационная гигиена. – 2021. – Т. 14. – №2. – С.89–99.
- Пышкина, М. Д. Профессиональное облучение нейтронами на Белоярской АЭС / М.Д. Пышкина, А.В. Васильев, А.А. Екидин, Е.И. Назаров, А.В. Пудовкин, В.О. Никитенко, В.И. Гуринович, Д.И. Комар, В.А. Кожемякин // АНРИ. – 2021. – №3 (106). – С.16–26.
Speaker: Дамиан Комар (Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ», г. Минск) -
156
Оптимизация канала эпитепловых нейтронов на базе ускорителя электронов для прикладных исследования в геологии и археологии
Проведены исследования для оптимизации нейтронного канала на базе ускорителя
электронов при изменении толщины полиэтиленового замедлителя с целью повышения
выхода резонансных нейтронов по отношению к фону медленных нейтронов. Регистрация
нейтронов проводилась с помощью нейтронного детектора на основе слоя $^{10} B$ и
пропорциональной камеры с применением метода времени пролета.Speaker: Евгений Пермяков (ИЯИ РАН) -
157
Оптимизация параметров замедлителя и конвертера для радиометра быстрых нейтронов
В работе представлены результаты оптимизации параметров замедлителя, использующегося в экспериментальном образце прибора для измерения выхода нейтронов импульсных источников излучения. Также приводится обоснование расположения счетчиков вторичного излучения в объеме замедлителя и характеристик активируемого материала, полученных с использованием инструментов физико-математического моделирования в среде Geant4.
Оптимизированная конструкция радиометра быстрых нейтронов обеспечивает увеличение чувствительности к нейтронному излучению с энергией 14 МэВ на величину до 18% в абсолютном выражении и до 27% в пересчете на один счетчик вторичного излучения.Разработка методов регистрации нейтронного излучения на сегодняшний день остается важной научно-технической задачей. Особое внимание следует уделить созданию устройств для регистрации и анализа нейтронного излучения, генерируемого в кратковременных импульсах продолжительностью от десятков наносекунд до единиц микросекунд. Импульсное нейтронное излучение является ключевым инструментом для анализа состава веществ и уточнения ядерно-физических констант. Эти методы также играют значительную роль в создании и эксплуатации исследовательских ядерно-энергетических установок.
Активационный метод регистрации нейтронов импульсных источников излучения в сравнении с прочими методами обладает рядом исключительных преимуществ, например таких, как нечувствительность к сопутствующему излучению и возможность избежать проблем с перегрузкой счетной аппаратуры [1, 2]. В данной работе представлены результаты подбора оптимальных параметров конструкции замедлителя, расположения счетчиков вторичного излучения, а также характеристик активационного детектора для экспериментального образца радиометра быстрых нейтронов (РБМ). Подобраны следующие параметры блока детектирования: форма замедлителя, расположение счетчиков в его объеме, количество счетчиков, необходимое для достижения требуемой точности измерений при заданных значениях выхода нейтронов из источника, расстояние между счетчиками в объеме замедлителя, толщина активационного детектора.Список литературы
1. G. F. Knoll // Radiation detection and measurement // John & Wiley Sons Inc. – 2010.
2. A. Pietropaolo et al. // Neutron detection techniques from μeV to GeV //Physics Reports. – 2020. – V. 875. – Pp. 1-65.Speaker: Ренат Ибрагимов (НИЯУ МИФИ) -
158
Опыт проектирования систем контроля нейтронно-физических параметров для СУЗ исследовательских ядерных установках
В течение последних лет во ВНИИЭФ разработан комплекс универсальных аппаратных и программных средств для построения каналов регистрации и контроля нейтронно-физических параметров излучения исследовательских ядерных установок (ИЯУ) [1]. Формируемые на его основе измерительные каналы обеспечивают контроль значений физической мощности ИЯУ (интенсивности потока нейтронов) в динамическом диапазоне (не менее восьми порядков), скорости нарастания физической мощности (от 0,1 до 500 с), интегрального энерговыделения, выполняют расчёт реактивности ИЯУ. В качестве первичных преобразователей в каналах используются распространённые детекторы потока нейтронов: ионизационные камеры типа КНК3, КНК4, КНК15, КНК15-1 [2] и др., счетчики нейтронов типа СНМ11, СНМ18 и др. Одной из основных функций каналов является генерация набора сигналов в реальном масштабе времени для устранения условий, приводящих к развитию аварийной ситуации при работе ИЯУ. Разработанные подходы и алгоритмы позволяют оперативно формировать каналы различного назначения: каналы контроля мощности, каналы контроля предельных уровней, каналы регистрации формы импульса, каналы аварийной защиты, – которые в дальнейшем используются для научных экспериментов или для создания систем контроля нейтронно-физических параметров, интегрируемых в системы управления и защиты (СУЗ) ИЯУ. В докладе рассмотрены общие принципы построения систем контроля нейтронно-физических параметров и конкретные их реализации в составе действующих или модернизируемых СУЗ для ИЯУ, которые функционируют во ВНИИЭФ [3].
- М.А. Воинов и др. ВАНТ. Сер. Физ. Ядер. Реакт. 4, 123(2018).
- А.С. Кошелев и др. Ядер. Физ. Инж. 4, № 11-12, 1009(2013).
- А.В. Арапов и др. ВАНТ. Сер. Физ. Ядер. Реакт. 4, 45(2023).
Speaker: Галина Пикулина (Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики) -
159
Поиск аксиоэлектрического эффекта в атомах Kr для солнечных аксионов
Целью работ [1] и [2] являлся поиск аксиоэлектрического эффекта (АЭ) для солнечных аксионов, имеющих непрерывные спектры, и аксионов с энергией 14.4 кэВ, излучаемых в М1-переходе в ядрах 57Fe на Солнце. Аксиоэлектрический эффект является аналогом фотоэффекта. В результате реакции аксион исчезает, при этом появляется свободный электрон и последующее характеристическое рентгеновское излучение атома и Ожэ-электроны. Сечение АЭ прямо пропорционально сечению фотоэффекта и константе связи аксиона с электроном, число событий АЭ зависит от потока и спектра налетающих на детектор аксионов.
Для регистрации частиц, возникающих в результате АЭ, использовался газовый пропорциональный счетчик, расположенный в низкофоновой установке в подземной лаборатории Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН. Статистически значимого сигнала от АЭ, который имеет характерную форму и искался в измеренном спектре, обнаружено не было. В результате получены новые ограничения на константу связи аксиона с электроном, на произведение констант связи аксиона с электроном и фотоном, и массу аксиона в двух, наиболее известных, KSVZ- и DFSZ-моделях аксиона.
Работа поддержана грантом РНФ - № 24-12-00046.- Е.Ф. Бубнов, Ю.М. Гаврилюк, А.Н. Гангапшев, A.В. Дербин, И.С. Драчнев, В.В. Казалов, В.В. Кузьминов, В.Н. Муратова, Д.А. Текуева, Е.В. Унжаков, С.П. Якименко, Письма в ЖТФ, 2024, Т.50, В.6, С.37.
- A.В. Дербин, И.С. Драчнев, Ю.М. Гаврилюк, А.Н. Гангапшев, В.В. Казалов, В.В. Кузьминов, В.Н. Муратова, Д.А. Семенов, Д.А. Текуева, М.В. Трушин, Е.В. Унжаков, С.П. Якименко, Письма в ЖТФ, 2024, Т.50, В.23, С.7.
Speaker: Валентина Муратова (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) -
160
Поиск корреляций нейтринных событий в детекторе Borexino с транзиентными астрофизическими явлениями
Анализ кратковременных (транзиентных) космических процессов позволяет обнаруживать одни из самых энергетически мощных и быстротечных объектов во Вселенной. Эти явления критически важны для расширения наших знаний о динамике и эволюции космоса, а также помогают глубже понять природу стационарных астрофизических источников. Например, наблюдения за сверхновыми проливают свет на механизмы звездной эволюции. Независимо от конкретных направлений исследований, транзиентные феномены останутся ключевыми объектами изучения в астрофизики, особенно в эпоху создания новых телескопов и исследований, способных фиксировать непрерывные изменения во Вселенной.
В данной работе с помощью детектора Borexino изучались нейтринные сигналы от транзиентных объектов — быстрые радиовсплески (FRB) [1] и гравитационные волны (GW) [2] — во временных окнах ±5000 секунд относительно момента их регистрации. Проведен поиск временных корреляций для 42 FRB [3] с потоком Φ_FRBi > 40 Ян·мс, а также для 74 GW [4], включая события, предположительно связанные со слиянием черных дыр и нейтронных звезд. В обоих случаях статистически значимых аномалий в количестве событий обнаружено не было. На основе данных установлены новые верхние пределы для потоков нейтрино (νx) [5]:
- В диапазоне 0.5–15 МэВ для FRB;
- В диапазоне 0.5–50 МэВ для GW.
Эти результаты задают более строгие ограничения для моделей, связывающих нейтринное излучение с транзиентными явлениями.- M. Amiri et al., The First CHIME/FRB Fast Radio Burst Catalog,
arXiv:2106.04352v1 (2021) - B. P. Abbott et al., GWTC-1: A Gravitational-Wave Transient Catalog
of Compact Binary Mergers Observed by LIGO and Virgo during the
First and Second Observing Runs, Phys. Rev. X 9, 031040 (2019) - S. Appel et al., Search for low-energy signals from fast radio
bursts with the Borexino detector Eur. Phys. J. C. 82, 3, 278 (2022) - D. Basilico et al., Borexino’s search for low-energy neutrinos
associated with gravitational wave events from GWTC-3 database:
Borexino Collaboration Eur. Phys. J. C. 83, 6, 538 (2023) - I. Lomskaya et al., Search for Low-Energy Borexino Signals
Correlated with Gamma-Ray Bursts, Solar Flares, and Gravitational
Wave Events Phys. Part. Nucl. 53, 2, 271-276 (2022)
Speaker: Ирина Ломская (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) - M. Amiri et al., The First CHIME/FRB Fast Radio Burst Catalog,
-
161
Поиск тяжелых нейтрино с помощью измерений спектров 144Ce- 144Pr полупроводниковыми спектрометрами
В настоящее время одной из актуальных задач нейтринной физики является поиск четвертого, так называемого «стерильного» состояния нейтрино, практически не подверженного слабому взаимодействию, что делает затруднительным его экспериментальное обнаружение. Современные варианты расширения Стандартной Модели, в частности, предполагают существование тяжелых стерильных нейтрино с массой от кэВ до сотен ГэВ. Такие частицы хорошо подходят для объяснения барионной асимметрии Вселенной и могут являться частицами темной материи. Обнаружить тяжелые стерильные нейтрино можно в экспериментах по поиску проявлений смешивания таких частиц с активными типами нейтрино.
Для поиска тяжелого не йтрино в бета-распадах ядер в лаборатории низкофоновых измерений ОПЯД ПИЯФ созданы два типа бета-спектрометров, основанные на полупроводниковых Si-детекторах. Первый спектрометр типа «мишень-детектор» представлял собой Si(Li)-детектор полного поглощения, толщиной 6 мм и диаметром чувствительной области 6,5 мм, над поверхностью которого располагался источник $^{144}$Ce, нанесенный на лавсановую подложку. Дополнительно в систему подключался тонкий пролетный Si-детектор толщиной 0.3 мм для отбора (анти)совпадающих событий. Вся система помещалась в вакуумный криостат и охлаждалась до температуры жидкого азота. Каждый детектор был оснащен зарядочувствительным предусилителем, усилителем и АЦП [1, 2].
Спектрометр второго типа, имеющий 4$\pi$ геометрию, представлял собой два Si(Li) детектора толщиной 8.9 мм и 9.2 мм и диаметрами чувствительной области 20 и 18 мм, соответственно, приведенные в плотный контакт друг с другом. В одном из детекторов была вышлифована лунка, в которую был нанесен источник $^{144}$Ce. Спектрометр в такой геометрии позволял регистрировать полную энергию электрона, исключая обратное рассеяние электронов от поверхности кристалла. Детекторы помещались в вакуумный криостат и охлаждались до температуры жидкого азота. Для данного спектрометра использовалось цифровое преобразование сигнала [3, 4].
Бета-спектр, в случае излучения тяжелого нейтрино, представляет собой сумму двух бета-спектров: для нейтрино массой $m \simeq 0$ и дополнительного вклада для тяжелого нейтрино с массой $m = m_{eH}$, который пропорционален углу смешивания $|U_{eH}|^2$. Для тяжелого нейтрино с массой в диапазоне (0.003 - 2.7) МэВ были получены верхние ограничения на параметр смешивания $|U_{eH}|^2$, при этом ограничения в интервале масс $m_{eH}$ = (0.1-2.0) МэВ являются наиболее строгими на сегодняшний день.
[1] А. В. Дербин и др., Письма в ЖЭТФ, 108, 531 (2018)
[2] Alekseev I. E. et al., NIM A, 890, 64 (2018)
[3] Alekseev I. E. et al., Instr. Exp. Tech. 64, 190 (2021)
[4] Alekseev I. E. et al., J. of Phys. Conf. Ser., 2103, 012141 (2021).Speaker: Нелли Ниязова (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) -
162
Пострадиационные изменения количества фокусов белков γH2AX и рATM в мезенхимальных стволовых клетках человека, облученных 14,1 МэB нейтронами
В данной работе получены новые экспериментальные данные о дозовой зависимости и кинетике γH2AX/pATM при нейтронном и гамма-излучении, проанализированные в динамике до 24 ч. Показано, что гамма-излучение преимущественно инициирует быстрый c-NHEJ с кратковременной ATM-сигнализацией. Нейтронное излучение сопровождается длительной ATM-активацией и замедленной элиминацией фокусов γH2AX и pATM. Через 24 часа после облучения сохраняется ~62% фокусов γH2AX и ~52% pATM от уровня 0,5 ч; тогда как после гамма-облучения сохраняется существенно меньше фокусов (γH2AX ~16%, pATM ~6%), что указывает на выраженные различия в кинетике восстановления. Повышенная устойчивость фокусов при нейтронном облучении отражает высокую долю трудноустранимых кластерных повреждений, требующих продолжительной и многоступенчатой репарации. Полученные результаты дополняют современные представления о молекулярной регуляции выбора путей репарации DSB и могут найти практическое применение при оптимизации протоколов радиотерапии (использующих нейтронное облучение), а также в космической радиобиологии для оценки риска радиационного поражения.
Speaker: Софья Корнева (Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва) -
163
Прецизионные измерения периода полураспада $^{71}$Ge, выполненные с целью поиска решения «галлиевой аномалии»
Эксперименты с радиохимическими детекторами SAGE, GALLEX/GNO и BEST показали, что поток солнечных pp-нейтрино, регистрировавшихся с помощью реакции $\nu_{e}$ + $^{71}$Ga $\rightarrow$ $^{71}$Ge + e, составил $80\%$ от ожидаемого. Дополнительные измерения с искусственным источником нейтрино $^{51}$Cr в рамках эксперимента BEST выявили статистическую значимость полученных результатов на уровне $5\sigma$. Одно из возможных объяснений данного феномена связано с осцилляцией нейтрино в стерильное состояние, однако не исключается возможность некорректного учета времени жизни радионуклида, которому обратно пропорциональна скорость счета событий [1].
Уточнение значения периода полураспада $^{71}$Ge при условии, если оно является больше принятого ранее на $20\%$, позволило бы объяснить «галлиевую аномалию». Мы представляем результаты измерения периода полураспада Т$_{1/2}$($^{71}$Ge), полученные в ходе более 6 месяцев работы спектрометров на основе полупроводниковых Si(Li)-детекторов (S$_{1}$ $=$ $200$ мм$^{2}$; S$_{2}$ $=$ $30$ мм$^{2}$), уже использовавшихся ранее для прецизионных измерений [2]. Источник $^{71}$Ge был получен на ускорителе в реакциях (n,$x$n) и (р,$x$n) c мишенью из природного германия. Измеренные спектры обрабатывались с учетом дополнительного вклада от распадов других наработанных радионуклидов. Результирующая кривая распада $^{71}$Ge подгонялась суммой соответствующих компонент, которые определялись временами жизни дочерних ядер.
Наилучшее значение T$_{1/2}$($^{71}$Ge), полученное в результате подгонки событий, соответствующих рентгеновским квантам линии K$_{\alpha}$($^{71}$Ge), с Si(Li)-детектором (S$_{1}$ $=$ $200$ мм$^{2}$), составило T$_{1/2}$($^{71}$Ge) $= 11.4645 \pm 0.0036$ суток ($\chi^{2} = 4674/4615$; $P = 0.27$), что согласуется с ранее измеренными значениями, но является в $2-8$ раз более точным [3, 4].
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 24-12-00046).- S.R. Elliott, V.N. Gavrin, W.C. Haxton, Prog. Part. Nucl. Phys. 134,
104082 (2024). - I.E. Alekseev et al., Phys. Rev. C 102, 064329 (2020).
- E.B. Norman et al., Phys. Rev. C 109, 055501 (2024).
- I.J. Collar, S.G. Yoon, Phys. Rev. C 108, 021602 (2023).
Speaker: Денис Иванов (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) - S.R. Elliott, V.N. Gavrin, W.C. Haxton, Prog. Part. Nucl. Phys. 134,
-
164
Применение универсальности в развитии каскадных процессов для исследования высокоэнергетических космических частиц в космических экспериментах
В данной работе предлагается метод, позволяющий использовать сверхтонкий калориметр для прямых измерений космических лучей с энергией ТэВ и выше. Подробно рассматриваются проблемы определения первичной энергии с помощью тонкого калориметра, обусловленные большими флуктуациями развития ливня, малой статистикой анализируемых событий и большими размерами, требуемыми для калориметра. Предлагается решение этих проблем на основе метода уменьшения флуктуаций. Этот метод основан на предположении об универсальности развития каскадов, образованных частицами одинаковой энергии и заряда. Для восстановления энергии используются так называемые SR кривые. Основными анализируемыми величинами являются: S – размер каскада (энергия, выделяемая на каждом слое калориметра); R – скорость развития каскада (разница в размерах каскада на двух измерительных слоях калориметра). На основе моделирования гетерогенного калориметра, состоящего из 22 слоев вольфрамового поглотителя и кремневого детектора, показано, что кривые SR практически параллельны друг другу и практически не зависят от глубины развития каскада. Это позволяет определять первичную энергию для каскадов, не достигших своего максимума. Этот факт решает проблему, связанную с необходимостью увеличения толщины калориметра при увеличении первичной энергии. Поэтому для измерений можно использовать сверхтонкий калориметр. Кроме того, можно увеличить статистику анализируемых событий. При этом энергетическое разрешение практически не зависит от энергии первичной частицы.. Корреляционные кривые флуктуируют значительно меньше каскадных кривых. Поэтому энергетическое разрешение для протонов составляет ~10 процентов при энергиях 1-100 ТэВ. Предложенная методика универсальна для разных энергий и разных ядер.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки Республики Казахстан (грант № AP22785312).Speaker: Сайора Ибрагимова (Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева, Физико-технический институт, Алматы, Казахстан) -
165
Расчет колебательных спектров некоторых триптанов (суматриптан и ризатриптан) методами квантовой химии
Вибрационная спектроскопия часто используется для исследования биофизических систем, поскольку она предоставляет подробную информацию о локальной структуре материала. Большинство исследований проводятся с помощью инфракрасной или рамановской спектроскопии. Комплиментарным методом является спектроскопия неупругого рассеяния нейтронов (INS) [1]. Как спектроскопический метод, INS дает уникальную возможность обеспечения изотопной чувствительности, поскольку является гораздо более сильным рассеивающим центром, чем все другие атомы, включая дейтерий. Кроме того, рассеяние нейтронов не имеет правил отбора, кроме тех, которые возникают из-за изменения длин ядерного рассеяния. Комбинация инфракрасной, рамановской и неупругой нейтронной спектроскопии (INS) используется для получения полных колебательных спектров [2].
Методы компьютерной химии активно применяются в колебательной спектроскопии, как для лучшей интерпретации экспериментальных спектров, так и как дополнительный инструмент исследования системы. Существуют различные пакеты для расчетов методами квантовой химии, среди которых одним из самых популярных является пакет ORCA.
В настоящем исследовании мы сочетаем экспериментальные подходы с теоретическими расчетами. В центре нашего внимания – триптаны. Триптаны – это группа лекарственных средств, специально разработанных для снятия приступа мигрени. Классическая триптановая структура содержит боковую цепь на индольном кольце и основной азот на аналогичном расстоянии от индольной структуры. Основным структурным отличием триптанов является положение сульфонамида и боковой цепи, присоединенной к нему. Ризатриптан и золмитриптан имеют вместо сульфонамида триазол и 2-оксазолидон, соответственно. Другое исключение из классической структуры наблюдается у элетриптана, где азотно-алкильная цепь, соединенная с индольным кольцом, заменена диметилпирролидином, и у наратриптана, где азотно-алкильная цепь заменена 1-метилпиперидиновым кольцом [3].
Несмотря на похожие структуры и одинаковый механизм действия, все триптаны обладают разными побочными эффектами. Кроме того, побочные эффекты одного и того же триптана могут проявляться у разных людей по-разному. Таким образом, триптаны являются интересными объектами для исследований SAR (structure-activity relationship – связь между структурой и активностью). Исследования особенностей структуры и динамики триптанов может помочь в понимании, какие именно характеристики молекулы могут влиять на ее свойства.
С целью пролить свет на различия в биофизических свойствах триптанов были рассчитаны колебательные спектры (ИК-спектр и рамановский спектр) для двух триптанов: суматриптана и ризатриптана. Несколько методов расчетов квантовой химии были применены.
1. Mitchell et al. 2005 Vibrational spectroscopy with neutrons, with applications in chemistry, biology, Materials Science and Catalysis
2. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-642-16712-6_143
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Discovery_and_development_of_triptansSpeaker: Светлана Качановская (Тверской государственный университет, Тверь, Россия) -
166
Расчет охлаждающих каналов прямоугольного волноводного тракта
Синхротрон «СИЛА» содержит инжектор линейного ускорителя на основе электронной пушки с термоэмиссионным катодом (для работы на накопительное кольцо) и электронной пушки с фотокатодом (для генерации пучка для лазера на свободных электронах) [1,2]. В качестве источника питания фотоэмиссионной пушки планируется использовать клистрон c уровнем выходной мощности 6,5 МВт. Передача высокочастотной мощности будет осуществляться через волноводный тракт. Тракт изготовлен из бескислородной меди, имеет прямоугольное сечение 72×34 мм и толщину стенок 5 мм.
Система СВЧ-питания должна обеспечить стабильную по параметрам (в том числе в отношении фазы) электромагнитную волну на входе в ускоряющую структуру. Несмотря на относительно низкий уровень средней ВЧ мощности (Pср=10кВт), а также небольшие потери энергии в стенках волновода, требуется оснастить фидерный тракт системой термостабилизации. Таким образом, будет гарантирована постоянная электрическая длина тракта и одинаковый набег фазы при любом режиме работы инжектора.
Стенки волновода охлаждаются за счет естественной конвекции. (коэффициент конвективной теплоотдачи 5 Вт/м2∙К). В дополнение охлаждение волновода осуществляется с помощью трубок, внутри которых проходит вода в непрерывном режиме. Произведен расчет коэффициента конвективной теплоотдачи для воды α=691,99 Вт/(м2∙К) с учетом расхода жидкости Q = 5 л/мин.
Литература
1. И. А. Ашанин, Т. В. Бондаренко, М. В. Владимиров, и др., Проект ВЧ- фотопушки для линейного ускорителя-инжектора для ЛСЭ проекта СИЛА // Письма в ЭЧАЯ. - 2024. - №Т. 21, № 3(254). - С. 410–417.
2. Design and simulation of an S-band RF photogun for a linac-injector for the SYLA FEL / Ashanin, I.A. [et al.] // Journal of Instrumentation. - 2024. - 19. - № 10. - 10.1088/1748-0221/19/10/C10004.Speaker: Софья Кобелева (НИЯУ МИФИ) -
167
Реакции под действием альфа-частиц на ядрах европия-153 как способ наработки медицинских нуклидов тербия-152 и тербия-155
Радионуклиды Tb-152 (T=17.1 ч, ec β+ 100%) и Tb-155 (T=5.32 сут., ec 100%) являются диагностическими частями "тербиевого щвейцарского ножа ядерной медицины": Tb-152 подходит для диагностики при помощи ПЭТ, Tb-152 - для диагностики при помощи ОФЭКТ. Вместе с терапевтическими изотопами Tb-161 (T=6.89 сут, β- 100%) и Tb-149 (Т=4.12 ч, ec β+ 83.3%, α 16.7%) они закрывают все потребности в области ядерной медицины, обеспечивая при этом тераностический персонализированный подход. Таргетные радиофармпрепараты на основе Tb-161 уже проходят клинические испытания [1].
Одной из основных проблем при разработке радиофармпрепаратов на основе нуклидов тербия является сложность их наработки. В частности, в случае Tb-152 и Tb-155 все описанные подходы для производства имеют один из следующих недостатков:
- необходимо уникальное оборудование как высокоэнергетические ускорители и системы масс-сепарации. Такой подход реализован в CERN или TRIUMF.
- образуется значительное количество радиоактивных примесей, которые увеличивают дозовую нагрузку на пациента и снижают качество получаемых изображений ПЭТ или ОФЭКТ.
- необходимость использование высокообогащенного мишенного материала. Например, для реакции под действием протонов на ядрах Gd-155 необходима степень обогащения более 98%, а коммерчески доступен только с обогащением около 95% [2].
Данная работа посвящена исследованию сечений ядерных реакций под действием альфа-частиц с энергиями до 60 МэВ на ядрах европия-153, а так же определению применимости данной реакции для наработки Tb-152 и Tb-155 для нужд ядерной медицины.
Для исследования сечений был использован метод стопки фольг с последующим определением продуктов при помощи гамма-спектрометрии. Для этого были изготовлены тонкие слои из оксида европия-153 толщиной 200-240 мкг/см2 методом электрохимического осаждения на подложку из титана. Были собраны стопки фольг, включающих фольги из Al и Cu для мониторинга параметров пучка и Al фольги в качестве поглотителей. Стопки облучали на изохронном циклотроне У-150 (НИЦ Курчатовский институт") альфа-частицами дважды: с начальной энергией 60 МэВ и током 750 нА и с начальной энергией 40 МэВ и током 146 нА. После облучения стопка разбиралась на составные части, каждая из которых 2-3 раза была измерена на гамма-спектрометре ORTEC GEM 35P4 HPGe. Для расчета сечений было использовано приближение тонкой мишени, а в случае продуктов Tb-154g,154m1,154m2 был дополнительно применен взвешенный метод наименьших квадратов из-за схожести периодов полураспада и сильного наложения гамма-линий.
Впервые были получены сечения образования изотопов тербия 152, 153, 154g, 154m1, 154m2, 155, 156 и гадолиния-153 на ядрах европия-153 под действием альфа-частиц с энергией 19.8-59.2 МэВ. По рассчитанным сечениям были определены выходы на толстой мишени, по которым затем подбирались оптимальные условия наработки Tb-152 и Tb-155.
Данная реакция не подходит для наработки Tb-152, т.к. в изученном энергетическом диапазоне образуется более 30% примесной активности.
Для наработки Tb-155 было показано, что если при входе в мишень альфа-частицы имели энергию 30.2 МэВ, а на выходе - 27.5 МэВ, то конечный продукт содержит около 2.1% примесной активности Tb-156, что удовлетворяет требованиям из работы [2]. Содержание других примесей, а именно Tb-154g,154m1,154m2, возможно путем подбора времени охлаждения мишени после облучения [3].
Изученная в данной работе реакции подходит для наработки Tb-155 для дальнейшего медицинского применения и ее можно назвать компромиссным решением описанных выше проблем с наработкой.- A.N. Moiseeva et al., Front.Nucl.Med.4 (2024).
- F. Barbaro et al., EJNMMI Phys. 11, 26 (2024).
- E.S. Kormazeva et al., Radiat. Phys. Chem. 234, 112809 (2025)
Speaker: Екатерина Кормазева (НИЦ "Курчатовский институт") -
168
Симуляция регистрации высокоэнергичного послесвечения гамма-всплеска с помощью наземных телескопов TAIGA-IACT
Существуют космические гамма-всплески (GRB) с высокоэнергичной составляющей спектра послесвечения ($E> 1~$ТэВ). Наличие гамма-квантов такой высокой энергии можно обнаружить с помощью наземных установок, таких как распределённые сцинтилляционные/черенковские детекторы (HAWC, LHAASO), так и с помощью атмосферных черенковских телескопов (H.E.S.S, TAIGA-IACT).
При наличии автоматической системы быстрого наведения по координатам из оповещений о гамма-всплесках можно провести сеанс наблюдения за участком неба и провести выделение гамма-сигнала. Поток гамма-квантов при GRB на короткое время может превышать поток от Крабовидной туманности на несколько порядков, что существенно упрощает задачу подавления фоновых адронных событий.
В настоящей работе приведена симуляция регистрации высокоэнергичного гамма-излучения с помощью черенковского телескопа TAIGA-IACT на примере события GRB221009A.
- LHAASO Collaboration*† et al., A tera–electron volt afterglow from a narrow jet in an extremely bright gamma-ray burst.Science380, 1390-1396(2023). DOI:10.1126/science.adg9328
Speaker: Александр Разумов (НИИЯФ МГУ им. Скобельцына) -
169
Сравнение методов изучения изомерных состояний атомных ядер на тормозных и монохроматических пучках гамма-квантов
Ядерные изомеры, представляющие собой долгоживущие возбужденные состояния ядер, являются объектом пристального внимания, как с точки зрения фундаментальной ядерной физики, так и в контексте потенциальных применений. Использование гамма-квантов является эффективным способом возбуждения и исследования ядерных изомеров. Целью данной работы является анализ возможностей использования монохроматических пучков гамма-квантов для исследования изомерных состояний атомных ядер и сравнение преимуществ таких исследований с исследования на тормозном излучении.
В Национальном центре физики и математики (г. Саров, Нижегородская обл.) планируется создание источника комптоновского излучения, основанного на принципе обратного комптоновского рассеяния лазерного излучения на пучке релятивистских электронов. Ключевыми преимуществами данного источника для изучения ядерных изомеров являются квазимонохроматичность гамма-излучения, позволяющая селективно возбуждать определенные ядерные уровни, и перестраиваемая энергия, обеспечивающая возможность исследования изомеров различных ядер. Недостатками, по сравнению с тормозным излучением, являются относительно низкая общая интенсивность и сложность оборудования и инфраструктуры.
В докладе приведено аналитическое сравнение возможностей двух методов исследования ядерных изомеров – тормозных и монохроматических пучков гамма-квантов.
Тормозное излучение является хорошим инструментом для поиска новых изомеров и измерения интегральных сечений. Однако, для детального изучения свойств изомерных состояний комптоновское обратное рассеяние является более предпочтительным методом, несмотря на его техническую сложность.Speaker: Анастасия Чуйкина (Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Саров) -
170
Цифровая модель процесса неразрушающего контроля положения и целостности комплектующих компонент тепловыделяющих элементов
В современной атомной энергетике контроль состояния и положения компонентов тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) критически важен для обеспечения ядерной безопасности и эффективности работы реакторов. Одним из ключевых элементов ТВЭЛа является пружина, которая компенсирует тепловое расширение и фиксирует топливные таблетки. Для мониторинга состояния пружины необходимы неразрушающие методы, позволяющие регистрировать за оптимальные времена порядка 0,001 с её положение внутри ТВЭЛа и определять координаты её начала и конца.
В работе создана компьютерная модель на основе программного пакета Geant4 [1], предназначенная для моделирования прохождения гамма-излучения через движущийся ТВЭЛ. Модель позволяет рассчитывать взаимодействие гамма-квантов с материалами ТВЭЛа и определять количество квантов, достигающих детектора, в зависимости от пространственного положения ТВЭЛа. Это обеспечивает возможность определения текущего положения ТВЭЛа и в частности пружины.
Для моделирования взаимодействия с пружиной ТВЭЛа выбран диапазон энергии гамма-излучения 290-400 кэВ, который обеспечивает оптимальную проникающую и поглощающую способности и может быть использован для неразрушающего контроля. Источник гамма-излучения располагается вне ТВЭЛа, а детекторы фиксируют прошедшее через него излучение.
Результаты моделирования показали, что наличие пружины в ТВЭЛе приводит к значительным локальным изменениям интенсивности прошедшего излучения. Эти изменения однозначно связаны с различиями в коэффициентах поглощения и рассеяния гамма-излучения материалом пружины и окружающими компонентами ТВЭЛа [2].
На основе анализа профиля интенсивности излучения установлено, что начало и конец пружины могут быть определены по характерным пикам и спадам интенсивности. Эти пики соответствуют зонам, где пружина начинает и заканчивается, что позволяет локализовать её положение внутри ТВЭЛа.
Разработанная модель и проведенные численные эксперименты показали необходимую точность определения положения пружины с использованием выбранного гамма-излучения. Погрешность метода составляет не более 2-3 мм, что допустимо для практического контроля локализации пружины в ТВЭЛе.
Литература
1. S. Agostinelli et al., "Geant4 – a simulation toolkit," Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 506(3), 250–303 (2003).
2. J. H. Hubbell, and S. M. Seltzer, "Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients," National Institute of Standards and Technology (1995).Speaker: Вячеслав Дьячков (Воронежский государственный университет)
-
140
-
-
-
0. Plenary Лекторий Института Истории (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Лекторий Института Истории
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Plenary
Convener: Леонид Валентинович Григоренко (FLNR, JINR, Dubna, Russia)-
171
Status of the NICA/MPD project at JINR
Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA) is a new accelerator complex for heavy ions and polarized particles being under commissioning at JINR [1]. The main goal of the MPD project at NICA is to study rich phase structures of QCD at finite temperature and baryochemical potential. The MPD detector has been designed to fully exploit the NICA physics potential by measuring a variety of signals from heavy-ion collisions [2]. MPD is capable to investigate a wide range of physics phenomena including the Equation of State and critical behavior of the QCD matter, properties of the hadron in-medium spectral function, and features of hyperon-nucleon interactions [3].
In this talk, I will review some highlights of the MPD physics program and discuss feasibility study results for a wide range of observables in Bi+Bi and Xe+W collisions at NICA energies. The status and plans of MPD assembling for first data will also be overviewed.References
[1] Kekelidze V., Lednicky R., Matveev V. et al., Eur. Phys. J. A 52 (2016) 8, 212.
[2] K. U. Abraamyan et al. (MPD Collaboration) Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A 628, 99 (2011).
[3] V. Abgaryan et al. (MPD Collaboration), Eur. Phys. J. A 58 (2022) 7, 140.Speaker: Vadim Ivanovich Kolesnikov (JINR) -
172
Spin Physics Detector at NICA
The Spin Physics Detector is one of two large setups at the NICA collider under construction at JINR. The ultimate goal of the studies at SPD is the measurement of different spin observables in polarized proton-proton and deuteron-deuteron collisions sensitive to the polarized gluon structure of the nucleon at the luminosity up to 10*32 cm −2 s −1 and up to 27 GeV in the center of mass. SPD will consist of the superconducting magnetic system, silicon tracker, straw mini-drift tubes tracker, time-of-flight system, electromagnetic ”shashlyk”- type calorimeter, muon (range) and local-polarimetry systems. The high performance free-streaming DAQ system will be able to operate at the collision rate up to 4 MHz.
The possibilities of the measurements at the first phase of SPD experiment will be discussed.Speaker: Vladimir Petrovich Ladygin (VBLHEP JINR) -
173
Status of ARIADNA Collaboration for applied research at NICA facility
NICA ($\textbf{N}$uclotron-based $\textbf{I}$on $\textbf{C}$ollider f$\textbf{A}$сility) is a new accelerator complex designed at the Joint Institute for Nuclear Research to study properties of dense baryonic matter. Besides the fundamental physics issues, the NICA team is also constructed special beamlines for applied research, including biomedical applications, space research, radiation materials science, radiation testing of microelectronics and novel developments for ADS. The $\textbf{A}$pplied $\textbf{R}$esearch $\textbf{I}$nfrastructure for $\textbf{A}$dvanced $\textbf{D}$evelopments at $\textbf{N}$ICA f$\textbf{A}$cility, recently named ARIADNA, includes (1) beamlines with magnetic optics, power supplies, beam diagnostics systems, cooling systems, etc., (2) several experimental zones equipped with target stations for users (detectors, sample holders, irradiation control and monitoring system, etc.) and (3) supporting user infrastructure (areas for deployment of user equipment, for sample preparation and post-irradiation express analyses).
Overall scope of applied research be performed using ARIADNA beamlines includes but limited to radiation protection in space, radiation testing of microelectronics, materials research with ion beams and novel technology for radiation waste processing.
Zone 1 and its experimental station is designed for studying radiation damage to decapsulated microcircuits with low-energy ion beams extracted from the HILAC at the energy of 3.2 MeV/nucleon. The spectra of available particles will include protons and ions with Z = 2 to 92, which enables simulating certain aspects of exposure of non-biological samples to low-energy component of space radiation. Zone 2 will provide an opportunity for irradiation of different samples with intermediate-energy ion beams of 150–1000 MeV/nucleon. Zone 2 includes two target stations designed for space radiobiology studies, radiation materials science and investigating the radiation damage to capsulated microelectronics. At both target stations the following ions are expected to be available: $^{12}\rm{C}^{6+}$, $^{40}\rm{Ar}^{18+}$, $^{56}\rm{Fe}^{26+}$, $^{84}\rm{Kr}^{36+}$, $^{131}\rm{Xe}^{54+}$, $^{197}\rm{Au}^{79}$. Considering the recent trends and multiple requests raised by potential users, there is an intent to extend acceleration techniques towards realistic simulation of galactic cosmic rays with NICA beams, including implementation of the specific acceleration regime with rapid switching of ions and energies. Zone 3 is designed for development of novel nuclear power technologies, including development of ADS. The beams of $^1\rm{H}^{1+}$, $^2\rm{D}^{1+}$, $^{12}\rm{C}^{6+}$, $^{40}\rm{Ar}^{18+}$ and $^7\rm{Li}^3$ with energies of 0.3-4 GeV/nucleon are planned to be available at the target station of this zone. Zone 4 is intended for long-term exposure of materials science and biological samples to heavy ions with energies of 1-4 GeV/nucleon. The recent test experiments in this zone were performed with 3.8 GeV/nucleon $^{124}\rm{Xe}^{54+}$ ions.
There are the ARIADNA collaboration is established in 2022 on research topics, which constructed zones are designed for. At present, this collaboration involves 202 participants from 30 organizations of 7 countries. Both academic and industrial teams are eligible to access the ARIADNA infrastructure. A corresponding user policy at NICA is under development, which will include regulations on equipment use, bioethics, access to beamlines and to supportive user infrastructure, etc. There are several ways of joining ARIADNA. First, as a member of ARIADNA collaboration via signing of an MoU to become a member of the collaboration. Second, as an individual user: via preparation and submitting a proposal for an experiment. Third, as an ARIADNA partner via contacting the ARIADNA responsible person and discussing a specific was on how a research team or a company can contribute to ARIADNA.
Speaker: Oleg Valerievich Belov (Laboratory for High Energy Physics, Joint Institute for Nuclear Research) -
174
Recent results from STAR beam energy scan II program
STAR detector at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) has successfully completed data taking for the second phase of the Beam Energy Scan (BES-II) program in year 2021. During this program STAR has collected experimental data on Au-Au collisions in the energy range from $\sqrt {s_{NN}} = 3$ to $13.7$ GeV in the fixed target mode and form $\sqrt {s_{NN}} = 7.7$ to $54.4$ GeV in the collider mode. Major detector upgrades have greatly increased detector capabilities to track charged particles produced in the collisions. This energy range covers a broad region in the QCD phase diagram, reaching up to baryon chemical potential of $750$ MeV. Measurements in this region will help understand nature of the phase transition from hadron matter to the QGP phase and search for the existence of the QCD critical point.
A wide range of results on particle production, anisotropic flow, correlations and other topics has been obtained from BES-II data. New results on the collective phenomena like test of number of constituent quarks (NCQ) scaling at low collision energies and cumulant ratio of net-proton multiplicity distribution have been measured with high precision. Investigating effects at low collision energies can help to track signatures of the critical point and precise location of the phase boundary. Precise analysis of variety of effects like energy dependence of coalescence parameters and hypernuclei lifetime measurements are presented. Also, new data on global polarization and spin alignment are presented.
Speaker: Alexey Andreevich Aparin (JINR)
-
171
-
11:00
кофе-брейк
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
70(2013)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Sergei Kamerdzhiev (National Research Center Kurchatov Institute)-
175
Description of nucleus-nucleus interaction using the Skyrme energy density functional
The typical requirement for the energy density functional (EDF) is the accurate description of the binding energies of nuclei, the energy spectra of single-particle states, and the properties of collective excitations [1]. At present, the EDFs based on the effective Skyrme-type interaction serve as a powerful tool for studying the nuclear structure. However, a simultaneous description of nuclei properties and their interaction potential within the Skyrme EDF has yet to be realized. As known, the sub-barrier fusion cross sections, as well as astrophysical reaction rates, are very sensitive to the effective nucleus-nucleus potential [2]. The experimentally determined height of the Coulomb barrier will become an additional criteria for finding a new set of the EDF parameters. In the present report, we discuss a procedure aimed for improving the Coulomb barrier height while preserving the description of nuclear structure based on the new EDF set.
The research was supported within the framework of the scientific program of the National Center for Physics and Mathematics, topic No. 6 "Nuclear and Radiation Physics" (stage 2023-2025).
References:
1. M. Bender, P.-H. Heenen, and P.-G. Reinhard, Rev. Mod. Phys. 75, 121 (2003).
2. A. Aprahamian, K. Langanke, and M. Wiescher, Prog. Part. Nucl. Phys. 54, 535 (2005).Speaker: Mikhail Kosarev (Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, Russia; Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia; Branch of Lomonosov Moscow State University in Sarov, Sarov, 607328, Russia) -
176
Uncertainty of 0νββ-decay nuclear matrix elements from Pairing
The uncertainty in the nuclear matrix elements (NMEs) of $0\nu\beta\beta$ decay for $^{76}$Ge, $^{82}$Se, $^{128}$Te, $^{130}$Te, and $^{136}$Xe in the self-consistent quasiparticle random phase approximation (QRPA) method is investigated by using eighteen Skyrme interactions supplemented with either a volume or surface type of pairing interactions. The NMEs for the isotopes concerned (except $^{136}$Xe) are less sensitive to the particle-hole (ph) interactions, while they are strongly dependent on the employed isovector particle-particle (pp) pairing interactions even though the pairing strengths are optimized to the same pairing gap. While the increase of isoscalar pairing can enhance the the ground-state correlations, which reduces both the $0\nu\beta\beta$ and $2\nu\beta\beta$ NMEs a lot. These results indicate that a precise determination of the pairing interaction in the Skyrme energy density functional is of importance to reduce the uncertainty in the NMEs within the QRPA framework.
Speaker: Dr Wanli Lv (School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University) -
177
Nuclear Collective Vibrations studied by beyond mean-field approach
Nuclear collective vibration provides deep insight in understanding the origin of heavy elements in the universe as well as the nuclear equation of state (EoS). For example, the Gamow-Teller transitions determine the beta-decay half-lives as important inputs for the nucleosynthesis study, while the giant monopole resonance (GMR) provides direct constraints on nuclear incompressibility, a key parameter of nuclear EoS. The quasiparticle random phase approximation model is the most commonly used microscopic model to study the collective vibration of atomic nuclei. However, due to the lack of higher-order many-body correlations beyond the mean field, the resonance width cannot be given, and serious problems are encountered when describing beta-decay lifetime and GMR energies. In this talk, I will introduce how to solve the above problems by developing a quasiparticle random phase approximation + quasiparticle vibration coupling model which considers higher-order many-body correlations. Furthermore, facing to various modes of nuclear collective vibrations, the photonuclear reaction is limited to the study of nuclear dipole excitations. I will discuss new possibilities to excite different modes of nuclear collective vibrations with vortex photons.
Speaker: Yifei Niu (School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)
-
175
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Viacheslav Samarin (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia)-
178
Prospects for studying the structure of unbound nuclei in (d,p) reactions
Recently, there has been significant progress in the use of ab inito approaches for theoretical studies of nuclear structure, which is why there is increasing interest in the structure of the lightest exotic nuclei, the description of which is an important test of ab inito approaches.
The direct (in particular $(d,p)$) reactions are actively used to study nuclei beyond neutron stability. In the direct reactions, alignment-interference effects, leading to specific correlations of the decay products of the nuclear system, may be observed. We can show, that such correlations can be much more sensitive to the properties of the nuclear interaction than the inclusive spectrum and differential cross-section, which are usually studied in experiments. Therefore, correlation measurements is an important additional source of information about the nuclear structure.
On the example of a quite simple model, we demonstrate in the report the effects of alignment-interference in direct reactions and common correlations patterns for various nuclear systems. The main features and advantages of the correlation experiment also highlighted in the report.
Speaker: Dr Pavel Sharov (Joint Institute for Nuclear Research) -
179
Исследование проявлений $3N$-взаимодействия в малонуклонных реакциях
В работе проведен анализ данных, полученных в реакциях с малонуклонными системами при различных энергиях [1-8]. Обнаружена зависимость полученных в этих работах значений синглетных длин рассеяния ($a_{np}$) от относительного импульса синглетной np-системы и третьей заряженной частицы при соответствующей кинематике реакции. Обнаруженная зависимость может быть объяснена в рамках Дибарионной модели NN-взаимодействия [9] введением нового механизма – обмена скалярным σ-мезоном между дибарионом (в нашем случае np-синглетом $^{1}S_{0}$) и заряженной частицей (протоном или np-синглетом $^{1}S_{0}$). При этом с увеличением эффективного расстояния между фрагментами сила взаимодействия уменьшается и в пределе стремится к нулю, а длина рассеяния к значению в отсутствии влияния на эту величину трехчастичного взаимодействия $a_{np} = –23.748±0.010$ Фм [10], извлеченную из экспериментов по свободному np-рассеяния.
Исследование выполнено в рамках научной программы Национального центра физики и математики, направление № 6 «Ядерная и радиационная физика».- A. Niiler et al., Phys. Rev. 182, 1083 (1969).
- H. Bruckmann et al., Nucl. Phys. A 157, 209 (1970).
- Z. Ying-Ji et al., Phys. Rev. C 47, 468 (1993).
- D.E. Gonzalez Trotter et al., Phys. Rev. Lett. 83, 3788 (1999).
- V. Huhn et al., Phys. Rev. C 63, 014003 (2000).
- J. Deng et al., Phys. Rev. C 66, 047001 (2002).
- A.A. Kasparov et al., Phys. Atom. Nucl. 86, 44 (2023).
- A.A. Kasparov et al., “NUCLEUS-2024”, Book of Abstracts, 121 (2024).
- V.I. Kukulin et al., J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 27, 1851 (2001).
- O. Dumbrajs et al., Nucl. Phys. B 216, 277 (1983).
Speaker: Александр Каспаров (ИЯИ РАН) -
180
Вычисление сечений реакций радиационного захвата протонов на ядрах р-оболочки
В настоящее время в теоретических исследованиях свойств легких ядер важное место занимают ab initio методы описания атомных ядер, то есть подходы использующие реалистические нуклон-нуклонные потенциалы. Базовым среди этих методов является оболочечная модель ядра без инертного кора (NCSM). Эта модель дает возможность с хорошей точностью рассчитывать энергии и волновые функции основных и возбужденных состояний легких ядер. Непосредственно NCSM не может применяться для расчета распадных характеристик ядерных состояний – асимптотических нормировочных коэффициентов (АНК) закрытых и парциальных ширин распада открытых каналов фрагментации, и , как следствие, применяться для расчета сечений ядерных реакций. Для решения данной задачи, авторами был ранее разработан метод ортогонализированных функций кластерных каналов (CCOFM) [1], который позволяет получать асимптотические характеристики связанных и резонансных состояний — асимптотические нормировочные коэффициенты и амплитуды парциальных ширин, соответственно.
Использование R-матричной теории ядерных реакций позволило использовать результаты CCOFM для расчета сечений резонансных ядерных реакций. В частности, в этой схеме были вычислены сечения резонансных ядерных реакций идущих через компаунд-состояния 8Ве: p(7Li, 4He)4He, n(7Ве, 4He)4He, 7Be(n,p)7Li, d(6Li, 4He)4He [2, 3].
Большое значение для задач ядерной астрофизики имеют результаты вычислений АНК протонных каналов синтеза легких ядер. Разработанный нами метод позволяет довольно точно рассчитывать АНК и парциальные ширины нуклонных каналов. Этот факт, в совокупности с возможностью NCSM рассчитывать ширины электромагнитных переходов, позволяет вычислять сечения реакций радиационного захвата – как резонансных, так и прямых. В рамках данной работы был проведен теоретический расчет и анализ сечений реакций 7Be(p, gamma)8B и 8B(p, gamma)9C. Результаты расчетов хорошо согласуются с известными экспериментальными данными в случае реакции 7Be(p, gamma)8B, что, в свою очередь, позволяет делать обоснованные теоретические предсказания сечения реакции 8B(p, gamma)9C.- D. M. Rodkin, Yu. M. Tchuvil’sky, Physical Review C 103, 024304 (2021).
- D. M. Rodkin, Yu. M. Tchuvil’sky International Journal of Modern Physics E 33 (11) 2441008 (2024).
- Yu. M. Tchuvil’sky D. M. Rodkin, International Journal of Modern Physics E 33 (11) 2441019 (2024).
Speaker: Дмитрий Родкин (ВНИИА им. Духова) -
181
Кинематическое моделирование эксперимента по определению низкоэнергетических характеристик $pp$-взаимодействия в реакции $p$+$^{2}$H→$p$+$p$+$n$
В работе [1] выдвинута гипотеза о том, что расхождение в экспериментальных значениях длины нейтрон-нейтронного рассеяния $a_{nn}$, полученных в реакциях с тремя частицами в конечном состоянии, может быть связано с влиянием 3$N$-сил. Можно предположить, что подобный эффект будет наблюдаться в случае измерения низкоэнергетических характеристик $pp$-взаимодействия ($a_{pp}$ и $E_{pp}$) в реакциях с двумя протонами в конечном состоянии. Для проверки данного предположения в ИЯИ РАН были проведены исследования реакции $d$+$^{1}$H→$p$+$p$+$n$ [2-4], а также планируется исследование реакции $p$+$^{2}$H→$p$+$p$+$n$. Результаты исследований будут сопоставлены с данными, полученными в других научных группах, и теоретическими расчётами.
В настоящей работе представлены кинематическое моделирование реакции $p$ +$^{2}$H→$p$+$p$+$n$ и описание проектируемой по результатам моделирования экспериментальной установки. Рассмотрена зависимость выхода реакции от углов вылета протонов и нейтронов, на основании чего сделан вывод об оптимальных углах регистрации данных частиц. Выполнено моделирование прохождения заряженных частиц через детектирующую систему, помещённую в вакуумную камеру.
Исследование выполнено в рамках научной программы Национального центра физики и математики, направление № 6 «Ядерная и радиационная физика».Список литературы
- Е.С. Конобеевский и др., ЯФ 81, 555 (2018).
- Е.С. Конобеевский и др., Изв. РАН. Сер. физ. 84, 492 (2020).
- Мицук В.В. и др., Изв. РАН. Сер. физ. 87, 148 (2023).
- Каспаров А.А. и др., Изв. РАН. Сер. физ. 88, 1766 (2024).
Speaker: Вячеслав Мицук (ИЯИ РАН) -
182
Расчёт сечений реакций синтеза ядер в условиях мюонного катализа
Явление мюонного катализа традиционных ядерных реакций синтеза, заключается в увеличении скорости и числа реакций синтеза за единицу времени жизни отрицательно заряженного мюона, находящегося в зоне взаимодействия ядер [1]. Прямые расчёты полных сечений реакций синтеза с корректным учётом кулоновского взаимодействия между ядрами и ядрами и лептонами в условиях когда сильное взаимодействия не является малым параметром ещё не проводились. Качественные классические оценки таких сечений для энергий дейтронов 1-10 кэВ в реакции dt синтеза приводят для ста катализируемых однотипных реакций в оценке сечений от 1000 до 4000 барн [2], что почти на три порядка выше максимального сечения обычного dt синтеза. В представляемой работе проведены первые трёхчастичные расчёты сечений реакций синтеза для систем вида dty--ny-4He, где y--отрицательно заряженный электрон или мюон с учётом кулоновских и короткодействующих взаимодействий в единой манере с помощью решения соответствующих связанных интегральных уравнений Фаддеева [3,4]. Полученные оценки сечений согласуются с классической оценкой в области до 10 кэВ кинетических энергий, а с дальнейшим ростом энергии начальной частицы существенно превышают её. Расчёты показывают, что если мюон успевает перейти на орбиту налетающей частицы эффект роста сечений заменяется его падением в широкой области энергий.
[1] St.Jones, Nature 321, 127 (1986).
[2] M.Shmatov, Phys. Plasmas 28, 124501 (2021).
[3] Э.Шмид, Х.Цигельман, Проблема трёх тел в квантовой механике, 1979 г.
[4] M.Egorov, arXiv:2412.07572v2[quant-ph], 2025Speaker: Михаил Егоров (Томский Государственный Университет, ОИЯИ)
-
178
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Alexander Madumarov (Joint Institute for Nuclear Research)-
183
Криогенная газонаполненная ячейка охлаждения ионов. Результаты последних тестов с внутренним источником ионов
В Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ создается новая экспериментальная установка для прецизионных измерений масс тяжелейших нуклидов (с относительной разрешающей способностью порядка ΔM/M ~ 10$^{-7}$). Установка будет включать в себя новый мишенный блок, газонаполненный сепаратор продуктов реакции, криогенную газонаполненную ячейку (т.н. «Криоячейку») и многоотражательный времяпролетный масс-спектрометр. «Криоячейка» [1] является одной из важнейших частей планируемой установки. Эффективность торможения, а также эффективность и время экстракции ионов из ячейки являются важнейшими параметрами при работе газонаполненной ячейки. В предыдущих тестах было получено значение эффективности 49,3±3,0 % при давлении буферного газа 50 Торр и комнатной температуре для помещенного внутрь эманатора $^{219}$Rn. В данной работе будут описаны последние результаты по измерению эффективности и времени экстракции тяжелых ионов при комнатной, а также при криогенной температуре ~40 К, что является основным рабочим режимом для ячейки.
Список используемых источников:
1. V. Yu. Vedeneev, A. M. Rodin, L. Krupa, A. M. Abakumov, E. V. Chernysheva, A. V. Guliaev, A. V. Guliaeva, P. Kohout, A. Kohoutova, A. B. Komarov, N. Yu. Kurkova, A. S. Novoselov, A. Opichal, A. V. Podshibyakin, V. S. Salamatin, S. A. Yukhimchuk. A Cryogenic Gas-Filled Ion Stopping Cell as an Instrument for Experimental Study of Heaviest Nuclei // Physics of Particles and Nuclei Letters, ISSN: 1547-4771, eISSN: 1531-8567, Изд. Pleiades Publishing, Ltd. Т. 21, № 4, с. 611-614.Speaker: Вячеслав Веденеев (Лаборатория ядерных реакций (ЛЯР) им. Г. Н. Флёрова, ОИЯИ) -
184
Исследование локального окружения примесных ионов в конденсированных средах методом возмущенных угловых γγ-корреляций
Метод возмущенных угловых γγ-корреляций основан на исследовании углового распределения каскадных γ-квантов, излучаемых ядрами-зондами, внедренными в исследуемый образец. Угловая корреляция между каскадными γ-квантами определяется сверхтонкими взаимодействиями между ядрами-зондами и их локальным окружением (первая, вторая координационная сфера) [1]. В свою очередь, сверхтонкие взаимодействия позволяют получить информацию о локальной симметрии решетки, фазовых переходах и т.д. Измерения проводились на 4-х детекторном спектрометре, оснащенным сцинтилляционными кристаллами BaF2, находящимися под углами 90˚ и 180˚ относительно друг друга. Образец устанавливался в центре между ними [2].
В работе представлены результаты исследования параметров (расстояния, симметрии и др.) локального окружения примесных ионов (Cd, Ce, Yb, Ta) в феррошпинелях – CoFe2O4, ZnFe2O4, NiFe2O4 и смешанном вольфрамате - Hf0.5Zr0.5W2O8. Измерения проводились в интервале температур 77 К – 1300 К. В феррошпинели внедряли изотопы 111In, 140La, 172Lu, а 172Hf в вольфрамате нарабатывали путем его облучения тепловыми нейтронами.Литература:
1. A. Abraham, R. V. Pound. Influence of electric and magnetic fields on angular correlations. Physical Review 92(4), 1953, 943.
2. V.B. Brudanin, D.V. Filossofov, O.I. Kochetov, N.A. Korolev, M. Milanov, I.V. Ostrovskiy, V.N. Pavlov, A.V. Salamatin, V.V. Timkin, A.I. Velichkov, L.N. Fomicheva, A.V. Tsvyaschenko, Z.Z. Akselrod. PAC spectrometer for condensed matter investigation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 547, 2005, 389–399.Speaker: Наргиза Темербулатова (Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия; Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан) -
185
Development of a low-threshold cryogenic scintillation detector of neutrino
A scintillation detector concept utilizing high light yield crystals with silicon photomultiplier readout is under development at the Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences (INR RAS). The detector is aimed at registration of neutrino-induced recoil electrons with sub-keV energy thresholds (<1 keV). The detector architecture employs a modular, easily scalable design comprising 64-channel layers of scintillation modules. Each module integrates four compact crystals coupled to SiPM matrixes for photodetection. This system is optimized for low-energy neutrino detection, with applications in studying reactor neutrinos. The proposed scintillator crystals exhibit a high light yield of up to 120 photoelectrons per keV, enabling resolution of energy depositions as low as 100 eV. A detection threshold of 6 p.e. is achievable assuming a SiPM photon detection efficiency (PDE) of 50. Thermal management is critical for noise suppression: operation at cryogenic temperatures reduces SiPM dark count rates (DCR) to levels compatible with sub-keV threshold requirements. Systematic characterization of DCR temperature/voltage dependencies and scintillator performance has been conducted for several types of SiPMs and crystals. Preliminary evaluations of various crystal samples from multiple manufacturers confirm sufficient light yield, validating the detector’s feasibility. The modular design permits scalable deployment, positioning this technology as a promising tool for advancing low-energy neutrino physics experiments.
Speaker: Alexander Strizhak (INR RAS) -
186
Моделирование эффективности торможения и времени экстракции продуктов реакций слияния в криогенной газовой ячейке охлаждения ионов.
В Лаборатории ядерных реакций Объединённого института ядерных исследований создается установка для прецизионного измерения масс сверхтяжелых элементов с разрешением M/dM~10^6. Установка состоит из криогенной газовой ячейки охлаждения ионов и много-отражающего времяпролетного масс-спектрометра. Место её предполагаемого расположения — один из выводов газонаполненного сепаратора ГРАНД.
Оптимизация эффективности торможения в ячейке охлаждения ионов, а также оценка времени экстракции из нее производилась посредством компьютерного моделирования. Модель включала в себя: расчеты образования испарительных остатков в реакциях слияния, их торможение в мишени, в газонаполненном сепараторе, входных окнах газовой ячейки охлаждения ионов и в самой ячейке. Моделирование времени экстракции продуктов реакций слияния из газовой ячейки охлаждения ионов производилось путем расчета движения тяжелых ионов под действием электрического поля в газе.
Получены оптимальные параметры установки для девяти реакций образования ядер с атомными номерами Z=100-115 в реакциях с ионами 48Ca: 203Tl(48Ca,2n)249Md, 197Au(48Ca,2n)243Es, 208Pb(48Ca,2n)254No, 209Bi(48Ca,2n)255Lr, 238U(48Ca,3n)283Cn, 242Pu(48Ca,3n)287Fl, 244Pu(48Ca,3n)289Fl, 243Am(48Ca,2n)289Mc, 243Am(48Ca,3n)288Mc. Сравнение некоторых результатов моделирования с экспериментальными результатами демонстрирует удовлетворительное согласие.
Speaker: Алексей Новоселов (ОИЯИ) -
187
Создание спинового интерферометра на базе криогенного источника поляризованных изотопов водорода.
Описан метод создания высокочувствительного квантового (спинового) интерферометра на базе разработанного в ИЯФ СО РАН криогенного источника поляризованных изотопов водорода. Источник производит высокоинтенсивную направленную газовую струя атомов (8*10^16 атомов в секунду), находящихся в определенном спиновом состоянии. Далее, проводя атомы через область периодически изменяющегося магнитного поля, реализуется схема перевода атомов из одного спинового состояния в суперпозицию нескольких состояний с возможностью наблюдения их интерференции. Макроскопическим проявлением интерференции является наблюдение осцилляций заселенностей спиновых состояний при изменении внешнего магнитного поля. Относительные заселённости спиновых состояний ядер водорода измерялись с помощью поляриметра лэмбовского сдвига.
Приводятся результаты измерения возникающих при изменении внешнего магнитного поля осцилляций заселенностей спиновых состояний атомарного водорода. Проведено сравнение с теоретическими предсказаниями. Обсуждаются возможные области применения разработанного в ИЯФ СО РАН спинового интерферометра.
Speaker: Юрий Шестаков (Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН)
-
183
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Experiment 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Vadim Kolesnikov (JINR)-
188
Вклады нуклонных резонансов в инклюзивное рассеяние электронов из данных CLAS
Исследования реакций электророждения мезонов на детекторе CLAS позволили впервые получить экспериментальные данные об амплитудах электpовозбуждения большинства нуклонных резонансов ($N^{\ast}$), в области масс до 1.75 Гэв для абсолютных величин квадратов четырех-импульсов виртуальных фотонов $Q^{2}$ < 5.0 $ГэВ^2$. [1,2]. В докладе представлены результаты оценки резонансных вкладов в структурную функцию , а также в поляризованные структурные функции $g_1$ и $g_2$, для инклюзивного рассеяния электронов на протонах. Резонансные вклады получены впервые c использованием экспериментальных данных по амплитудам электровозбуждения $N^{\ast}$ в рамках метода развитого в [3,4]. Будут обсуждены параметризация амплитуд электровозбуждения $N^{\ast}$ в зависимости от $Q^2$ с учетом ограничений налагаемых условием аналитичности, неопределенности резонансных вкладов, а также приведены сравнения резонансных вкладов со структурными функциями $F_2$, $g_1$ и $g_2$ из измерений на детекторе CLAS [5,6]. Выполненные исследования показали, что вклады $N^{\ast}$ в структурную функцию $F_2$ остаются значительными 40-60 % в области. $Q^2$ < 5.0 $ГэВ^2$. При этом основные черты в W-зависимостях поляризованной структурной функции $g_1$ при W< 1.75 ГэВ связаны с вкладами $N^{\ast}$.
Данные о вкладах резонансов в наблюдаемые инклюзивного рассеяния электронов позволят существенно расширить информацию о распределения партонов в основном состоянии протона в области долей импульсов партонов x сравнимых с единицей, а также откроют новые возможности в изучении кварк-адронной дуальности.
Литература
1.D.S. Carman et al., Particles 6, 416 (2023)
2. https://userweb.jlab.org/~mokeev/resonance_electrocouplings23/
3.A. N. Hiller Blin et al., Phys. Rev. C 100, 035201 (2019)
4.A. N. Hiller Blin, V. I. Mokeev, and W. Melnitchouk, Phys. Rev. C 107, 035202 (2023)
5.M. Osipenko et al., Phys. Rev. D 67, 092001 (2003)
6.R. G. Fersch et al., Phys. Rev. C 96, 065208 (2017)Speaker: Богдан Фадеенко (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия) -
189
Измерение выстроенности K*(892)-мезонов на ядрах на ускорительном комплексе У70
В докладе представлены предварительные результаты измерения элемента спиновой матрицы плотности rho00 векторного K*-(892)-мезона, рожденного инклюзивно в каон-минус-ядерных взаимодействиях, в кинематической области: по переменной Фейнмана xF > 0,4 и по поперечному импульсу pt < 1 ГэВ/c .
Анализ проведен на экспериментальных данных, полученных в результате проведения сеансов 2021 и 2022 годов на установке СПАСЧАРМ на ускорительном комплексе У-70 НИЦ "Курчатовского института"-ИФВЭ при импульсе каон-минус пучка ~26.5 ГэВ/c. Полученный результат сравнивается с результатами экспериментов, полученных раннее в других реакциях.We want to report preliminary result of spin density matrix element rho00 measurement of K*-(892)meson produced inclusively in negatively charged kaon–nucleus interactions for xF > 0,4 and pt < 1 Gev/c.
The analysis is performed for data taken in 2021 and 2022 years of the SPASCHARM experiment at the U-70 accelerator complex of the Kurchatov Institute National Research Center - IHEP with negatively charged kaon beam momentum about 26.5 Gev/c. Obtained result is compared with other experimental results.Speaker: Никита Калугин (НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ) -
190
Перспективы измерения структуры нуклонов на У-70 с помощью нейтральных мезонов
Изучение структуры нуклонов - одна из основополагающих задач физики высоких энергий. Практически все эксперименты по столкновению частиц высокой энергии дают дополнительную информацию о структурных функциях нуклонов. Ускоритель У-70 позволяет изучать столкновениях адронов при уникальной энергии и позволяет варьировать тип частиц в налетающем пучке. Изучение рождения нейтральных пионов и эта-мезонов в таких столкновениях будет интересно с точки зрениях улучшения точности параметризации структурных функций. Измерение спиновых структурных функций адронов в адронных столкновениях сейчас возможно только на нескольких установках: PHENIX и STAR на RHIC, COMPASS на SPS, PROZA-M/SPASCHARM на У70 и на строящемся эксперименте SPD на коллайдере NICA. Измерение односпиновых корреляций в рождении нейтральных мезонов на поляризованной мишени эксперимента SPASCHARM позволит получить новые данные в слабо изученной области фазового пространства, что позволит улучшить точность спиновых структурных функций.
Ускоритель У-70 позволяет проводить исследования структуры неполяризованных и поляризованных нуклонов при не слишком высоких энергиях столкновения, $\sqrt{s}$ ~ 10 ГэВ. В докладе мы рассмотрим, какие результаты можно получить с использованием прецизионного электромагнитного калориметра на основе кристаллов PbWO4 на пучке ускорителя У-70. Такой калориметр мог бы расширить физическую программу проводящихся и строящихся экспериментов, например, эксперимента SPASCHARM. Мы оценим доступный фазовый объем и возможности измерения спектров и односпиновой асимметрии нейтральных мезонов и прямых фотонов в различных конфигурациях эксперимента.
Speaker: Дмитрий Пересунько (НИЦ Курчатовский институт) -
191
Изучение системы $\eta’ \pi^+ \pi^-$ в пион – ядерном взаимодействии при 29 ГэВ.
Впервые система $\eta’ \pi^+ \pi^-$ изучается в зарядовообменной реакции взаимодействия отрицательно заряженных пионов с ядерной мишенью. В радиационных распадах $J/\psi$ в $e^+e^-$ аннигиляции спектр инвариантной массы этой системы характеризуется сложной структурой [1], с указанием на возможность наблюдения псевдоскалярного или тензорного глюбола. Другой механизм образования в данной работе открывает доступ к альтернативному спектру состояний, в т.ч. изовекторных (I=1).
Представлены предварительные результаты изучения основных характеристик процесса: 3-х и 2-х-частичные спектры масс, распределения по квадрату переданного импульса, ассоциативное возбуждение барионных резонансов в вершине мишени. Оценена перспектива парциально – волнового анализа.- M. Ablikim et al., Phys. Rev. Lett. 129, 042002 (2022)
Speaker: Юрий Хохлов (НИЦ КИ - ИФВЭ) -
192
Эксперименты по измерению поляризуемости заряженных и нейтральных пионов в Jlab
Поляризуемость пиона является фундаментальным репером КХД в области конфаймента в связи с существованием теоретического предсказания ее величины в рамках киральной пертурбативной теории (ChPT). В связи с этим экспериментальное определение поляризуемости пионов с высокой точностью крайне важно, обеспечивая наиболее строгий тест правильности ChPT в качестве низкоэнергетического представления КХД.
Величины поляризуемости заряженных и нейтральных пионов в экспериментах CPP и NPP будут определены с помощью измерений Примаковского сечения фоторождения заряженных и нейтральных пионных пар на ядерной мишени. Данные для этих измерений получены летом 2022 года на ускорителе им. Т. Джефферсона при взаимодействии поляризованного фотонного пучка с энергией 4.5 - 5.8 ГэВ с ядрами свинца-208 на модернизированной установке GlueX в Hall D.
В докладе будут обсуждены существующие измерения величин поляризуемости пионов, текущее состояние экспериментов CPP/NPP и предварительные результаты анализа данных.Speaker: Виктор Тарасов (НИЦ «Курчатовский институт»)
-
188
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Theory 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Vladimir Uzhinsky (LIT JINR)-
193
Modeling collective effects in the extended multi-pomeron exchange model
A new generalization of the Multipomeron exchange model (MEM) [1-3] for pp collisions is proposed, taking into account the effect of event-by-event string tension fluctuations [4]. It is shown that the new version of the MEM correctly reproduces the characteristic thermal behavior of $p_T$ spectra in a wide energy range. In addition, the new generalization of the MEM improves the description of multiplicity distributions by replacing the Poisson distribution from one string with the discrete Gaussian distribution [5]. Calculations show that the new version of the MEM correctly reproduces the characteristic oscillating behavior of modified combinants in pp collisions over a wide energy range [5]. Simultaneously, the $p_T$-multiplicity correlation functions are shown to be satisfactorily described together with the multiplicity-dependent $p_T$ spectrum [6]. Using results of the Glauber model at the partonic level [7-8], the model is applied for describing the relativistic heavy-ion collisions and strongly intensive fluctuations are calculated as a function of centrality .
The authors acknowledge Saint-Petersburg State University for a research project 103821868.
References:
- N. Armesto, D.A. Derkach, G.A. Feofilov, p(t)-multiplicity correlations in a multi-Pomeron-exchange model with string collective effects, Phys. Atom. Nucl. 71, 2087–2095 (2008).
- E. Bodnia, D. Derkach, G. Feofilov, V. Kovalenko, A. Puchkov, Multi-pomeron exchange model for pp and $\mathrm{p}\bar{\mathrm{p}}$ collisions at ultra-high energy, PoS QFTHEP2013 2013, 60 (2013).
- V. Kovalenko, G. Feofilov, A. Puchkov, F. Valiev, Multipomeron Model with Collective Effects for High-Energy Hadron Collisions, Universe 8, 246 (2022).
- A. Bialas, Fluctuations of the string tension and transverse mass distribution, Phys. Lett. B 466, 301–304 (1999).
- V. Vechernin, E. Andronov, V. Kovalenko, A. Puchkov, Multiplicity Distributions and Modified Combinants in the Multipomeron Model of pp Interaction at High Energies, Universe 10, 56 (2024).
- S. Acharya et al., Multiplicity dependence of charged-particle production in pp, p-Pb, Xe-Xe and Pb-Pb collisions at the LHC, Phys. Lett. B 843, 138110 (2023).
- V.P. Mikhailovsky, V.N. Kovalenko, Glauber Monte-Carlo Model at Partonic Level for pp Collisions in a Wide Energy Range, Phys. Part. Nucl. 53, 556-562 (2022).
- V. N. Kovalenko, Glauber Modeling of Hadron-Nuclei Collisions at the Parton Level, Phys. Part. Nucl. 56, 909–913 (2025).
Speaker: Vladimir Kovalenko (Saint Petersburg State University) -
194
Multiple particle production in deformed nuclei collisions in the framework of the modified Glauber model
In this talk we present the results of further development of the Monte Carlo modified Glauber model (MGM) [1], [2], [3] for deformed nuclei collisions at high energy. Our model differs from the Standard Glauber model by effectively accounting for energy losses in successive nucleon-nucleon collisions; we also account for the associated decrease in the inelastic nucleon-nucleon interaction cross section. The case of deformed nuclei appears to be interesting, because nuclei orientation before collision — whether it is of a tip-on-tip type or side-on-side, etc — were expected to affect significantly the multiparticle production. We discuss our results, obtained in the framework of the MGM with only one parameter, and compare them at the LHC energies, to the effects of nonlinearity observed for the normalized charged particle yields vs. centrality in collisions of deformed nuclei : Cu+Cu and Xe+Xe. We compare the results to the case of Pb+Pb collisions and argue that the explanation of these nonlinear effects is purely geometrical and the role of deformation is not the main one.
The authors acknowledge Saint-Petersburg State University for a research project 103821868
[1] Feofilov G. A., Ivanov A. A. // Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. – 2005. –
Vol. 31, No. 5. – P. 230-237.
[2] G. A. Feofilov and A. Yu. Seryakov, AIP Conf. Proc. 1701, 070001 (2016); DOI:
10.1063/1.4938686
[3] S. Simak and G. A. Feofilov, Phys. Part. Nucl. 56, 877 (2025).Speaker: Svetlana Simak (Saint-Petersburg State University) -
195
Образование протонов в новой кумулятивной области центральных быстрот и больших поперечных импульсов за счет взаимодействия флуктонов
Проведено обобщение теоретического подхода, разработанного ранее [1-6] для микроскопического описания кумулятивных явлений в протон-ядерных взаимодействиях в области фрагментации ядра на случай взаимодействия двух флуктонов при столкновении ядер. На его основе рассмотрено рождение протонов в dd-столкновениях в новой кумулятивной области центральных быстрот и больших поперечных импульсов, доступной для экспериментального изучения на установках SPD и MPD коллайдера NICA.
Разработан механизм образования протонов в этой области при взаимодействии двух флуктонов. Рассчитано асимптотическое поведение сечения этого процесса при больших начальных энергиях вблизи кинематической границы процесса и сформулированы правила кваркового счета для инклюзивного сечения рождения протонов в области центральных быстрот и больших поперечных импульсов. Полученные выражения дают явный вид зависимости инклюзивного сечения рождения кумулятивного протона от начальной энергии и кумулятивного числа вблизи кинематической границы dd столкновения.
Проведено сравнение полученных зависимостей для рождения протонов с аналогичными зависимостями, полученными ранее для случая рождения кумулятивных пионов в этой области [7]. Полученные выражения позволяют также проследить зависимость сечений и от других размерных параметров модели - геометрических размеров рассеивающихся объектов и массы конституентного кварка.
Разработанный подход и полученные новые правила кваркового счета для инклюзивных сечений рождения пионов и протонов можно будет проверить экспериментально, изучая рождение пионов и протонов в новой кумулятивной области больших поперечных импульсов и центральных быстрот, в экспериментах SPD и MPD на коллайдере NICA. Отметим, что для надежной регистрации очень редкого рождения частиц в кумулятивной области и отделения их треков от различного рода ложных фоновых треков крайне важно иметь сигнал от Внутренней Трековой Системы, позволяющий подтвердить выход трека кумулятивной частицы из первичной вершины взаимодействия.
Работа поддержана Российским Научным Фондом, грант 23-12-00042.Литература- M. A. Braun, V. V. Vechernin Nucl. Phys. B 427, 614 (1994).
- M. A. Braun, V. V. Vechernin, Phys. Atom. Nucl. 60, 432 (1997).
- M. A. Braun, V. V. Vechernin, Phys. Atom. Nucl. 63, 1831 (2000).
- M. A. Braun, V. V. Vechernin, Nucl.Phys.B:Proc.Suppl. 92, 156 (2001).
- M. A. Braun, V. V. Vechernin, Theor. Math. Phys. 139, 766 (2004).
- V. Vechernin AIP Conf. Proc. 1707, 060020 (2016).
- V. Vechernin, S. Yurchenko, Int. J. Mod. Phys. E 33, 2441022 (2024).
Speakers: Владимир Вечернин (Санкт-Петербургский государственный университет), Семен Юрченко (Санкт-Петербургский государственный университет) -
196
Расчет вклада петлевых диаграмм в модели Глаубера для dd взаимодействия
Дейтрон-дейтронное рассеяние рассмотрено в рамках глауберовского подхода [1]. Нуклон-нуклонные взаимодействия задавались вероятностью неупругого взаимодействия двух нуклонов при фиксированном значении прицельного параметра. При выборе профильной функции дейтрона учтено симметричное расположение нуклонов относительно центра масс.
В рамках этих предположений, используя подход работы [2], были получены точные аналитические выражения для среднего значения и дисперсии числа раненых нуклонов, дисперсия общего числа нуклонов-участников, среднего значения и дисперсии числа нуклонных столкновений для dd взаимодействия при фиксированном значении прицельного параметра. Также были найдены выражения для вероятности двух последовательных столкновений нуклона из одного дейтрона с двумя нуклонами другого дейтрона и вероятности взаимодействия двух нуклонов одного дейтрона с двумя нуклонами другого при фиксированном значении прицельного параметра.
Разработан алгоритм монте-карловского (МК) моделирования процесса рассеяния дейтронов. Для профильных функций сталкивающихся дейтронов была использована хюльтеновская аппроксимация волновой функции дейтрона. При численном МК моделировании для описания профиля сечения неупругого NN взаимодействия использовались два варианта: либо гауссово приближение, либо приближение черного диска.
С помощью разработанного МК алгоритма были получены численные результаты для вероятности взаимодействия двух нуклонов из одного дейтрона с одним и двумя нуклонами из другого дейтрона как функции прицельного параметра. Оценки этих вероятностей были получены также и для min.bias событий.
Показано, что вклад петлевой диаграммы, отвечающей процессу, когда два нуклона одного дейтрона сталкиваются с двумя нуклонами другого, оказывается зависящим от профиля сечения неупругого NN взаимодействия, даже в приближении, в котором размеры нуклоны считаются гораздо меньше размеров дейтрона. В то время как вклад не петлевых ("деревянных") диаграмм в этом приближении зависит лишь от полного сечения неупругого NN взаимодействия, а не от вида его профиля.
Работа поддержана Санкт-Петербургским государственным университетом, исследовательский проект 103821868.- A. Bialas, M. Bleszynski, W. Czyz, Nucl. Phys. B 111, 461 (1976).
- V. V. Vechernin and H. S. Nguyen, Phys. Rev. C 84, 054909 (2011).
Speaker: Светлана Белокурова (Санкт-Петербургский государственный университет) -
197
Proton production spectrum at Ultra High Energy: multiple Pomeron exchanges and growing cross sections, triple-Pomeron exchange and spectrum of UHE neutrinos, four-Pomeron exchange and Baryonium Dark Matter
Proton-proton collisions are changing at High Energies (HE): total cross sections are growing and the cross sections of proton-proton reaction become equal to antiproton-proton ones. The quark-antiquark annihilation is not already the mediator of interaction because of large gap between projectiles. The new mediator is Pomeron exchange, the trajectory with vacuum quantum numbers. Visually, it can be presented as cylinder with quark-gluon-net diagram on the wall. Cross sections are growing due to unusual intercept of Pomeron trajectory: $\Delta_P(0)> 0.
The multiple Pomeron exchanges, as well as enhanced diagrams with triple-Pomeron contribution and four Pomeron exchange with torus, play important roles in QCD processes at Ultra High Energy (UHE). Pomeron exchange contributions are not disappearing with energy. Triple-Pomeron exchange is responsible for diffraction peak at the end of proton production spectrum and thus the secondary particles (gamma-photons and neutrinos) in space should reproduce this feature of proton spectra: the bump at UHE end of spectra. The Pomeron torus is closed neutral QCD object, which hides the baryon and antibaryon charges and having shrinked mass toward the sum of baryon and antibaryon masses ,so that it is the proper candidate for Dark Matter. Baryons and anti baryons do not annihilate, but build the strongly connected quasi stable state, which has been named baryonium. The Baryonium Dark Matter conglomerates that are organized as multi baryonium torus may be very heavy and rather functional constituents of Universe. The expected features of BDM will be discussed.Speaker: Olga Piskounova (P.N.Lebedev Physics Institute)
-
193
-
5. Physics of neutrino and nuclear astrophysics РХО ПИБ (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
РХО ПИБ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Maxim Gromov (SINP MSU, JINR)-
198
Нейтринная физика и галлий содержащие сцинтилляционные детекторы
Сцинтилляторы, содержащие галлий, предоставляют новые возможности для экспериментов в области физики нейтрино. В докладе обсуждается перспектива создания компактных низкофоновых нейтринных детекторов, основанных на высокоэффективных и быстродействующих неорганических сцинтилляторах GAGG(Ce). Высокое содержание галлия в таком материале (около 21% по массе) вкупе с высоким световыходом сцинтиллятора (40000-60000 фотонов на МэВ) позволяет использовать его в экспериментах по проверке «галлиевой аномалии» и поиска стерильных нейтрино [1].
Присутствие значительного количества гадолиния, наряду с галлием, делает возможным проведение многозадачных экспериментов с использованием этого сцинтиллятора, в частности, параллельно искать процесс двойного безнейтринного бета-распада в 160Gd [2].[1] Testing the gallium anomaly. Patrick Huber // Phys.Rev.D 107 (2023) 9, 096011
[2] First Study of the PIKACHU Project: Development and Evaluation of High-Purity Gd3Ga3Al2O12:Ce Crystals for 160Gd Double Beta Decay Search. T. Omori et al. // Progress of Theoretical and Experimental Physics 2024(3)Speaker: Алмаз Фазлиахметов (ИЯИ РАН, НИЦ "Курчатовский институт") -
199
Спектры антинейтрино урана и плутония ядерного топлива
Спектры антинейтрино делящихся элементов требуются для точного предсказания спектра от ядерного реактора, что необходимо при проведении экспериментов в потоке реакторных антинейтрино. Разработан метод определения спектров четырех изотопов ядерного топлива ($^{²³⁵}$U, $^{²³⁸}$U, $^{²³⁹}$Pu, $^{²⁴¹}$Pu) по результатам прямого измерения. Параллельно это позволяет исследовать схемы бета-распадов ядер, удаленных от линии бета-стабильности.
Speaker: Dr Валерий Синев (Институт ядерной физики РАН, МИФИ) -
200
Status and perspectives of the vGeN neutrino experiment at Kalinin NPP
The vGeN experiment aims for a measurement of coherent elastic scattering of reactor antineutrinos off germanium nuclei and performs a search for electromagnetic properties of neutrinos. The latest results from the experiment as well as plans of the setup upgrade are presented.
The study was supported by the Russian Science Foundation (project no. 24-72-10089).Speaker: Alexey Konovalov (LPI RAS) -
201
Status of Neutrino4+ setups at SM-3 reactor
The Neutrino4+ setups are designed to search for light sterile neutrinos. In the Neutrino-4 experiment, an oscillation effect was observed at a confidence level of $2.7σ$ [1], which is in good agreement with the gallium anomaly and the results of the BEST experiment [2], but contradicts the latest constraints on the oscillation parameters obtained in the STEREO [3] and PROSPECT [4] experiments.
First neutrino laboratory was significantly modernized, and a second neutrino laboratory and a new setup for testing the oscillation effect at a precision level 3 times higher have been created. Data taking in the modernized laboratory started in 2024. Current status of both setups and first results are presented.
Sterile neutrinos do not interact with Standard Model particles, but due to mixing with active neutrinos they can be detected through the oscillation effect in disappearance experiments. By measuring the antineutrino spectrum at different distances from the source, it is possible to find the oscillation parameters to a sterile state by changing the shape of the spectrum.
In the setups background suppression techniques are realized, which allow to measure the spectrum of reactor antineutrinos on the Earth's surface: a scintillator with an increased concentration of gadolinium, an additive of diisopropylnaphthalene to pulse shape discrimination, segmented active shielding, a sectioned detector with horizontal sections and photomultipliers at both ends of each section.
The study was supported by the Russian Science Foundation, grant № 24-12-00091.- A. P. Serebrov, R. M. Samoilov, V. G. Ivochkin, A. K. Fomin, V. G. Zinoviev, P. V. Neustroev, V.L. Golovtsov, S. S. Volkov, A. V. Chernyj et al. Phys. Rev. D 104 (2021).
- V. V. Barinov, S. N. Danshin, V. N. Gavrin, V. V. Gorbachev, D. S. Gorbunov, T. V. Ibragimova, Yu. P. Kozlova, L. V. Kravchuk, V. V. Kuzminov et al. Phys. Rev. C 105, 065502 (2022).
- H. Almazán, L. Bernard, A. Blanchet, A. Bonhomme et al (STERO collaboration). Nature volume 613, 257–261 (2023).
- M. Andriamirado, B. Balantekin, C. D. Bass, O. Benevides Rodrigues et al (PROSPECT collaboration). arXiv:2406.10408v1
Speaker: Rudolf Samoilov (NRC "Kurchatov institute" - PNPI) -
202
Новые возможности йодного детектора при регистрации ускорительных и солнечных нейтрино
Недавно в национальной лаборатории в Ок-Ридже (Oak Ridge National Laboratory USA) с помощью детектора на основе изотопа $^{127}$I впервые было измерено сечение захвата нейтрино от ускорителя SNS с энергией от 10 до 55 МэВ [1, 2]. Йод является одной из самых тяжелых мишеней, для которых были измерены низкоэнергетические (≤ 50 МэВ) неупругие процессы нейтрино-ядерных взаимодействий, и это первое измерение его инклюзивного сечения. Необходимо отметить, что ранее авторами было предложено использовать йодный детектор для измерения солнечных нейтрино [3, 4].
Спектр ускорительных нейтрино гораздо более жесткий (до ~ 50 МэВ), чем спектр солнечных нейтрино (до ~ 20 МэВ), и это предполагает знание спектра зарядово-обменных возбуждений и силовой функции $S(E)$ до энергий, которые раньше не учитывались ни в экспериментах, ни в расчетах. Представленные расчеты показывают, что выше известных аналогового и Гамов-Теллеровского резонансов (обозначим АР-1 и ГТР-1) должны быть расположены двойные резонансы АР-2 и ГТР-2, связанные с одночастичными переходами через оболочку с изменениями главного квантового числа $\Delta$n = 1.
Рассчитывается резонансная структура зарядово-обменной силовой функции $S(E)$ с учетом высоколежащих резонансов и её влияние на сечения захвата ускорительных и солнечных нейтрино $\sigma(E)$ ядром $^{127}$I. Проанализировано влияние резонанса ГТР-1 и, лежащего выше ГТР-2 на энергетическую зависимость $\sigma(E)$. Также для ускорительных нейтрино впервые учтено влияние высоколежащих аналогового АР-2 резонанса.- P. An, Awe C., Barbeau P. S., et al. Phys. Rev. Lett. 131, 221801 (2023).
- Matti Hellgren and Jouni Suhonen. Phys. Rev. C 109, 035802 (2024).
- Yu. S. Lutostansky, N. B. Shul’gina. Phys. Rev. Lett. 67, 430 (1991).
- Yu. S. Lutostansky, A. N. Fazliakhmetov, G. A. Koroteev, N. V. Klochkova, A. Yu. Lutostansky, A. P. Osipenko, and V. N. Tikhonov. Physics Letters B, 826 (2022) 136905.
Speaker: Dr Юрий Лютостанский (НИЦ "Курчатовский институт")
-
198
-
13:05
Обед
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
70(2013)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Вячеслав Белов (ОИЯИ)-
203
Fine structure of the isoscalar giant monopole resonance in spherical nuclei
A comprehensive analysis of the isoscalar giant monopole resonance (ISGMR) has long been a subject of extensive theoretical and experimental studies [1,2]. The ISGMR properties are presently an important problem not only from the nuclear structure point of view [2,3] but also because of the special role they play in many astrophysical processes such as prompt supernova explosions [4] and the interiors of neutron stars [5]. The random phase approximation (RPA) with the Skyrme-type energy-density functional (EDF) is the most widely used theoretical model for describing the ISGMR [2,3]. The study of the monopole strength distribution in the region of giant resonance involves taking into account a coupling between the simple particle-hole excitations and more complicated configurations [3,6].
In the present report, we discuss the effects of the coupling between one-, and two-phonon terms in the wave functions on the fine structure of the ISGMR in spherical nuclei. The effects of the phonon-phonon coupling (PPC) [7] lead to a redistribution of the main monopole strength to lower energy states and into higher energy tail [8,9]. In particular, the PPC predictions of the fine structure of the ISGMR in 58Ni, 90Zr, 120Sn, and 208Pb are in good agreement with the fine structure which is extracted from experimental data analysis [8].
The research was partly supported by the National Research Foundation of South Africa.
[1] M.N. Harakeh and A. van der Woude, Giant Resonances (Clarendon Press, Oxford, 2001).
[2] Z.Z. Li, Y.F. Niu, and G. Colò, Phys. Rev. Lett. 131, 082501 (2023).
[3] N.N. Arsenyev, and A.P. Severyukhin, Universe. 7, 145 (2021).
[4] H.A. Bethe, Rev. Mod. Phys. 62, 801 (1990).
[5] N.K. Glendenning, Phys. Rev. Lett. 57, 1120 (1986).
[6] N.N. Arsenyev, A.P.Severyukhin, R.G. Nazmitdinov, JETP Letters, 118, 718 (2023).
[7] A.P. Severyukhin, V.V. Voronov, and N.V. Giai, Eur. Phys. Jour. A. 22, 397 (2004).
[8] A. Bahini et al., Phys. Rev. C. 109, 014325 (2024); Nucl. Phys. A. 1059, 123078 (2025).
[9] N.N. Arsenyev, and A.P. Severyukhin, Phys. At. Nucl. 85, 912 (2022); 86, 465 (2023).Speaker: Nikolay Arsenyev (Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research) -
204
Properties of isoscalar giant multipole resonances in medium-mass one-closed-shell nuclei: a semi-microscopic description
Dedicated to memory of B. A. Tulupov
Being proposed a decade ago, the semi-microscopic Particle-Hole Dispersive Optical Model (PHDOM) is proved to be useful and productive tool for describing main properties of various Giant Resonances (GRs) in medium-heavy-mass doubly-closed-shell nuclei (Refs. [1, 2] and references therein). In the present work, this model is implemented to a number of isoscalar multipole GRs in one-closed-shell nuclei 58Ni, 120Sn, and 142Nd. Main properties of an arbitrary GR include the following characteristics defined for a wide excitation-energy interval: the strength distributions, transition densities, and probabilities of direct one-nucleon decay. In evaluation of these characteristics within PHDOM, nucleon pairing in the open-shell subsystem might be neglected with acceptable accuracy (excluding some partial probabilities of direct one-nucleon decay). Directly following Ref. [1], we evaluate the characteristics and parameters of real main-tone isoscalar GRs, having multipolarity L = 0 – 3, and of L = 0, 2 overtones of respective real GRs in nuclei under consideration. The results are compared with available experimental data.
Special attention is paid to a comparison of calculated and experimental multipole strength functions of isoscalar GRs in a few one- and doubly-closed-shell nuclei. A reasonable agreement is obtained, except for L=2 isoscalar GR in 142Nd. The first observation of the overtone of the L=2 isoscalar GR in this nucleus is announced in Ref. [3]. A possible reason for the above-noted disagreement might be a choice of the overtone transition density and probing operator employed in Ref. [3] to deduce the overtone strength function from experimental cross sections of -particle inelastic scattering. Another choice is proposed within PHDOM [1].- M. L. Gorelik, S. Shlomo, B. A. Tulupov, and M. H. Urin, Phys. Rev. C 108, 014328 (2023).
- V. I. Bondarenko, and M. H. Urin, M. H., Phys. Rev. C 109, 064610 (2024).
- M. Abdullah, S. Bagchi, M.N. Harakeh, H. Akimune, et al., Phys. Lett. B 855, 138852 (2024).
Speaker: Mikhail Gorelik (Moscow Economic School) -
205
Самосогласованные расчеты вероятностей переходов из основного состояния в двухфононный триплет в ядрах со спариванием
В рамках самосогласованной Теории Конечных Ферми-Систем [1] рассмотрены электромагнитные переходы из основного состояния в двухфононное в ядрах со спариванием, по аналогичной схеме в работе [2], в которой были успешно объяснены вероятности Е1 переходов из основного состояние в $1^-$- состояние, образованное суммой первых $2_1^+$- и $3_1^-$ - уровней. В качестве цели нового исследования был выбран известный двухфононный триплет – сумма двух $2_1^+$-состояний, образующий группу близких по энергии уровней $4^+$, $2^+$, $0^+$. Мы рассматриваем полученные результаты как важный шаг для построения последовательной микроскопической теории двухфононных возбуждений.
Расчеты выполнялись с использованием самосогласованной схемы с хорошо известными параметрами энергетического функционала плотности Фаянса. Получено удовлетворительное согласие с имеющимися экспериментальными данными для величин B(E2) [3] в изотопах Sn.
[ 1] V. A. Khodel, E. E. Saperstein, Phys. Rep. $\textbf{92}$, 183 (1982).
[2] М.И. Шитов, С.П. Камерджиев, С.В. Толоконников, ЯФ, $\textbf{87}$, 414 (2024).
[3] https://www.nndc.bnl.gov/ensdf.Speaker: Михаил Шитов (НИЦ «Курчатовский институт») -
206
Эффективный поляризационный заряд в Теории Конечных Ферми - Систем
Рассмотрен микроскопический метод расчета феноменологических эффективных поляризационных зарядов: 1) нуклонов $e^{SM}_{eff}$ и 2) виртуальных изоскалярных и изовекторных $EL$-переходов $e^{SM}_{is}$ и $e^{SM}_{iv}$, получаемых подгоном к эксперименту [1-3] в современных расчетах в рамках многочастичной оболочечной модели c ограниченным модельным пространстве [4-6] (LSSM-расчеты).Метод основан на теории конечных ферми-систем (ТКФС) Мигдала [7]. В расчетах используется приближение сепарабельных сил, что позволило сильно облегчить вычисления. Для $^{208}$Pb и $^{120}$Sn впервые выполнены расчеты и сравнение рассчитанных и феноменологических значений $e^{SM}$ и получено разумное согласие между ними. Наши результаты демонстрируют необходимость и возможности дальнейшего микроскопического анализа получаемых величин $e^{SM}$ в процессе обобщения и развития ТКФС.
1.A. Jungclaus et al. Phys. Rev. Lett. $\textbf{132}$, 222501 (2024).
2 H. Grave et al. Phys. Let. B $\textbf{820}$, 136591 (2021)
3.R.Du Rietz et al. Phys. Rev. Lett. $\textbf{93}$, 222501 (2004).
4.F. Raimondi and C. Barbieri, Phys. Rev. C $\textbf{100}$, 024317 (2019).
5.H. Naida, F. Novacki, and K. Sieja, Acta. Phys. Pol. B $\textbf{46}$, 669 (2015).
6.N. Yoshinaga, K. Yanase, C. Watanabe1, and K. Higashiyama, Prog. Theor. Exp. Phys., 063D01 (2021).
7.А. Б. Мигдал, Теория конечных ферми-систем и свойства атомных ядер, Наука, М. (1965); Intersci., NY. (1967).Speaker: Mr Сергей Камерджиев (Национальный Исследовательский Центр "Курчатовский Институт") -
207
Систематика и структура изомерных состояний в сферических ядрах
На основе файла ENSDF создана и поддерживается в актуальном состоянии база данных о свойствах ядерных состояний с известным временем жизни [1]. В данной работе изучаются свойства изомерных состояний сферических ядер, связанные с орбиталью 1g9/2. Проведена систематика времен жизни изомерных состояний A-нечетных ядер с числом протонов Z=33-49. В легких изотопах с Z$\leq$37 основное состояние 3/2- (2p3/2), изомерное состояние – 9/2+. Изотопы Y (Z=39) имеют основное состояние 1/2- (2p1/2). В более тяжелых изотопах с Z$\geq$41 основное состояние уже 9/2+ (7/2+), а изомерное 1/2- – дырочное состояние 2p1/2. Проведено сравнение экспериментальных значений периодов полураспада с одночастичной оценкой вероятности изомерного перехода. При этом сравнении учитывались бренчинги распада изомерного состояния [1]. Влияние на время жизни изомерного состояния подгонки ядерных зарядовых радиусов не значительно. Одночастичная модель качественно описывает все изменения вероятностей изомерных переходов как по величине на несколько порядков, так и в группах изотопов с ростом массы.
Аналогичная систематика проведена для A-нечетных ядер с числом нейтронов N=35-49. Природа изомерии в соседних нечетно-нечетных ядрах связана с одночастичным возбуждением и векторным сложением угловых моментов нечетных протонов и нейтронов, один из которых не меняет своего состояния.
Основной вывод проведенной систематики состоит в том, что рассмотренные изомерные состояния в сферических ядрах имеют одночастичную структуру. Высокая мультипольность (М4, Е3) изомерных переходов объясняет их малую вероятность, а большие изменения времен жизни связаны с различными энергиями возбуждения изомеров.
В более тяжелых сферических ядрах появление изомерных состояний связано с орбиталью 1h11/2. Однако с ростом протон-нейтронной асимметрии (N>Z) появляется статическая деформация, и природа изомерии связана уже не со спином, а с «K-запретом».- И.А. Митропольский, Л.П. Кабина, С.С. Лисин. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016620544, Роспатент, 2016.
Speaker: Анастасия Кострыгина (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ)
-
203
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Дмитрий Любашевский (Воронежский Государственный Университет)-
208
Neutron-induced fission cross section of 239Pu, 240Pu and 242Pu in the energy range from 0.3 to 500 MeV
The 239Pu, 240Pu and 242Pu neutron-induced fission cross sections were measured relative to the 235U(n, f) cross section in the energy range from 0.3 MeV to 500 MeV using the GNEIS neutron time-of-flight spectrometer at the 1 GeV proton synchrocyclotron of the NRC KI - PNPI (Gatchina). The experimental setup consisted of two position-sensitive MWPC counters, which also allowed simultaneous measurement of the angular distributions of the fission fragments. The description of the experimental set-up, data processing and the results are presented together with the experimental data obtained on other time-of-flight facilities, such as n_TOF (CERN, EU) and LANSCE (Los Alamos, USA).
Speaker: Alexander Vorobyev (Petersburg Nuclear Physics Institute named by B.P. Konstantinov of National Research Center ”Kurchatov institute”) -
209
Prompt fission neutron spectra in 238U(p,F) &238U(n,F) and 232Th(p,F) &232Th(n,F) reactions
Pre–fission neutron spectra influence the partitioning of fission energy between excitation energy and total kinetic energy of fission fragments. It might be assumed that the (n,xnf) and (p,xnf) neutron contribution, i.e. PFNS shapes might depend on the entrance channel. For incident neutron energies from fission threshold up to En ~20 MeV prompt fission neutron spectra (PFNS) of 238U(n,F) were predicted in [1] and upgraded as described in [2]. Analysis of detailed data for 238U(n,F) PFNS [3] demonstrates sensitivities of PFNS shape near (n,xnf) reaction thresholds to the exclusive pre–fission neutron spectra. The latter are extremely sensitive to the (n,nγ) and (n,2nγ) competition. Shapes for 238U(n,F) PFNS [1] at excitations around 238U(n,nf) reaction threshold are strongly supported by the measured data of [3]. The average energies [[3] of 238U(n,F) PFNS support the approach pursued in [1, 2], lowering of is consistent with predicted contributions of 238U(n,nf) and 238U(n,2nf) to the observed PFNS and fission cross section. The influence of 238U(n,nf)1 excusive neutron spectra on 238U(n,F) PFNS at En~6–7 MeV is sensitive to the energy En steps of ~0.25 MeV. Integral PFNS is consistent with data [3]. The largest amplitude of excusive neutron spectra at En~6.25 MeV is envisaged. For the reactions 238U(n,F) and 238U (p,F) shape of PFNS and strongly depend on the fissility of composite and residual nuclides, 238+1-xU and 238+1-xNp, respectively (Fig. 1 and 2). The 238U(p,F) PFNS shape is quite different as compared to that of 238U(n,F), since the contributions of pre-fission neutrons are different both in compound and pre-equilibrium domain. Exclusive neutron spectra (p,xnf)1,..x are consistent with fission cross sections of 238U(p,F) and 238U(p,xn) up to En ~30 MeV. We predict 238U(p,xnf)1,..x exclusive pre–fission neutron spectra, exclusive neutron spectra of 238U(p,xn) 1,..x reactions, total kinetic energy TKE of fission fragments and products, partials of average prompt fission neutron number and observed PFNS of 238U(p,F). The dips in PFNS of 238U(p,F) are much shallower than in case of 238U(n,F) reaction. Asymmetry of 238U(p,xnf)1 neutrons with respect to the incident beam momentum is also very small.
Similar analysis/prediction is accomplished for the 232Th(n,F) and 232Th(p,F) PFNS.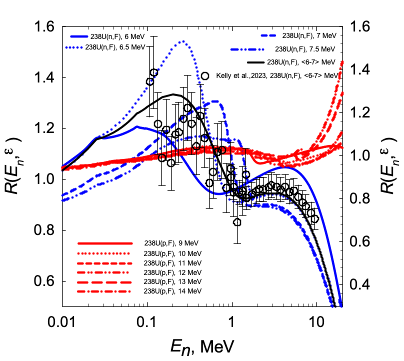
Fig. 1 238U(n,F) and 238U(p,F) PFNS, En~6–7 MeV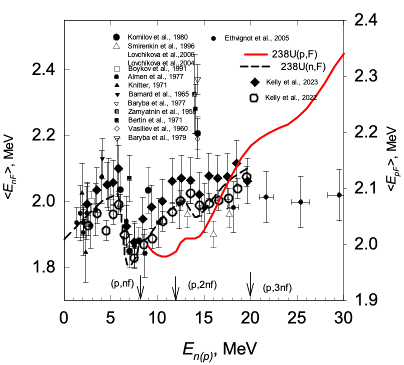
Fig.2 of 238U(n,F) and 238U(p,F) PFNS- V.M. Maslov, Yu.V. Porodzinskij,M. Baba et al., Phys. Rev. C, 2004, v. 69, p. 034607(1)—034607(13).
- V.M. Maslov, Physics of Particles and Nuclei, 2025, vol.56, No. 1, p. 64-87.
- K. J. Kelly, M. Devlin, J.M. O’Donnel et al., Phys. Rev. C, 2023, vol. 108, p. 024603.
Speaker: Vladimir Maslov (Minsk, Belarus, Slobodskoj proezd 4, 220025) -
210
Recent theoretical investigation for the synthesis of superheavy elements using the DNS model
Recent research has primarily focused on fusion reactions induced by heavy-ion collisions involving projectiles such as $^{51}$V and $^{50}$Ti as potential pathways to extend the known isotopic ranges and to explore new elements. The synthesis pathways of superheavy elements are modeled using the dinuclear system (DNS) approach [1, 2]. The DNS model comprehensively calculates the capture cross section and fusion cross sections, incorporating nuclear structure effects, deformation, and shell corrections that significantly impact fusion probability.
$σ_{ER} (E_{c.m.},\ell)=σ_{cap}(E_{c.m.},\ell)\cdot P_{CN} (E_{c.m.},\ell)\cdot W_{sur} (E_{c.m.},\ell)$. (1)
The reactions $^{50}$Ti+$^{244}$Pu and $^{50}$Ti+$^{251}$Cf were examined theoretically, highlighting their potential for the synthesis of elements 116 and 120. ER cross sections for the $^{50}$Ti+$^{244}$Pu reaction, displaying a peak cross section in the 4n neutron evaporation channel at $σ_{ER}=$0.58 pb, closely aligning with experimental results from recent studies [3]. For the $^{50}$Ti+$^{251}$Cf reaction aimed at synthesizing element 120, significant cross sections of 0.34 pb and 0.23 pb were predicted for the 3n and 4n channels respectively, highlighting this reaction as a promising candidate.
Theoretical predictions for the synthesis of element 119 through the $^{51}$V+$^{248}$Cm reaction indicate a maximum evaporation residue cross section of 12.3 fb at the center-of-mass energy of 232 MeV for the 4n evaporation channel [4]. These results are consistent with prior theoretical predictions, underscoring the reliability and predictive capability of the DNS model in guiding experimental searches for new superheavy elements.References
[1] A. Nasirov, A. Fukushima, Y. Toyoshima, Y. Aritomo, A.Muminov, S. Kalandarov, and R. Utamuratov, Nucl. Phys. A 759, 342 (2005).
[2] A. K. Nasirov, A. R. Yusupov, B. M. Kayumov, Phys. Rev. C 110, 014618 (2024).
[3] J. M. Gates, R. Orford, D. Rudolph, et al., Phys. Rev. Lett. 133, 172502 (2024).
[4] A. Nasirov, B. Kayumov, Phys. Rev. C 109, 024613 (2024).Speaker: Bakhodir Kayumov (New Uzbekistan University) -
211
Angular anisotropy in pre-fission neutron spectra and PFNS of 238, 239,240,241,242Pu(n, F)
Angular anisotropy of secondary neutrons was evidenced in neutron emission spectra (NES) of 239Pu+n in 1972, and in prompt fission neutron spectra (PFNS) of 239Pu(n, F) in 2019, it might be predicted for 238,40,241.242Pu(n, F) PFNS. In case of NES angular anisotropy is due to direct excitation of collective levels and pre-equilibrium/semi-direct mechanism (states in the continuum are excited) of neutron emission in inclusive first neutron spectra in (n, nX)1 reaction [1]. In case of PFNS it is due to exclusive spectra of pre-fission neutrons of (n, xnf)1,…x reactions. In 239,241Pu(n, xnf) and 238,240,242Pu(n, xnf) reactions observed PFNS envision different response to the emission of first pre-fission neutron in forward or backward semi-spheres with respect to the momentum of incident neutrons. Since energies of (n, nf)1 neutrons and their average values depend on the angle of emission θ with respect to the incident neutron momentum, the observed PFNS, average prompt fission neutron multiplicity, fission cross section, average total kinetic energy TKE, etc. also would be quite dependent on angle θ. Exclusive spectra of (n, xnf)1,..x neutrons at θ~90o are consistent with 238,239,40,241,242Pu(n, F) and 239Pu(n, 2n)) cross sections and neutron emission spectra of 239Pu+n interaction at En≲20 MeV. The correlations of the angular anisotropy of PFNS with the relative contribution of the (n, nf) fission chance to the observed fission cross section and angular anisotropy of pre-fission neutron emission are ascertained. The exclusive spectra of 238,239,240,241,242Pu(n, xnf)1,..x, 238,239,240,241,242Pu (n, xn)1,..x and 240,241,242Pu(n, nγ) reactions are calculated simultaneously with 238,239,240,241,242Pu(n, F) and 238,239,240,241,142Pu(n, хn) cross sections with Hauser-Feshbach formalism, angular anisotropy of (n, nX)1 neutron emission being included [1]. The influence of forward and backward emission of 241Pu(n, xnf) 1,..x pre-fission neutrons on observed PFNS are predicted to be stronger than observed for PFNS of 239Pu(n, F) (see Fig.). Calculated PFNS average energies are consistent with measured data up to the threshold of 240Pu(n, 2nf) reaction, at higher En sloping down of measured data remains unconfirmed [2].
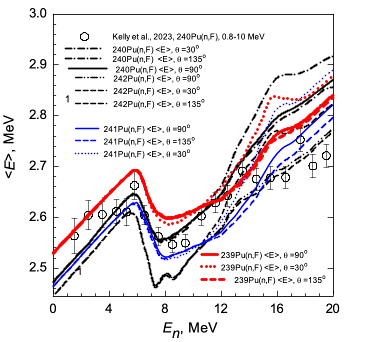
- Maslov V. M., Yadernaya Fizika, 2023, 86, No.5, pp. 562-604.
- Maslov V. M., Fizika Elementarnykh Chastits I Atomnogo Yadra, 2025, 56, No.1, pp. 88-121.
Speaker: Vladimir Maslov (Minsk, Belarus, Slobodskoj proezd 4, 220025)
-
208
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Arseniy Shabanov-
212
Ионно-плазменная технология дезактивации внутриконтурного оборудования ЯЭУ
Вывод из эксплуатации ядерных энергетических установок и дезактивация внутриконтурного оборудования реакторов остается одной из центральных задач ядерной энергетики. Применяемые в настоящее время радиохимические технологии дезактивации приводят к формированию больших объемов ЖРО, что влечет за собой дальнейшую проблему по их переработке. Недостатками радиохимических методов является необходимость эмпирического подбора типа раствора, режима дезактивации в зависимости от характера радиоактивного отложения и возникающая при этом коррозия конструкций. Как правило, внутриконтурное оборудование, изготовленное из реакторной нержавеющей стали, накапливает поверхностные отложения в форме шпинелей NinCrmFe(3-n-m)O4, где n=0÷2, m=(2-n), NinFe(3-n)O4 (где n=0÷2) или смешанных ферритов кобальта и никеля (CoO)x (NiO)y (FeO)(1–x–y) Fe2O3, где 1>y>>x [1], что и обуславливает сложность в выборе типа раствора для дезактивации. Также в состав поверхностных отложений могут входить продукты топливной композиции урана и плутония. Таким образом, остается актуальной проблема поиска эффективной технологии дезактивации реакторного оборудования.
Для ее решения нами разрабатывается ионно-плазменная технология дезактивации, основанная на применении укороченного разряда для удаления радиоактивных отложений с дезактивируемой поверхности посредством ионного и термического распыления в среде аргона с последующим осаждением распыленного слоя на танталовом электроде в виде твердого осадка без формирования вторичных ЖРО. Укороченный разряд зажигался между дезактивируемой поверхностью (катод) и танталовым электродом (анод), на который производилось осаждение распыленного слоя. В эксперименте получены рабочие параметры технологии: давление аргона 0,5 - 1 атм., напряжение (150 – 300) В, плотность тока (0.1 – 1) A/см2, длина разрядного промежутка 0,2 - 1 мм. В качестве экспериментальных дезактивируемых образцов использовались пластины из нержавеющей реакторной стали с искусственно созданными на поверхности отложениями в форме шпинелей. Осаждение слоя распыленных атомов Fe из состава шпинелей подтверждалось спектром элементного состава танталового электрода, полученным на сканирующем электронном микроскопе Merlin Zeiss c X-ray микроанализом и EDS-детектором Oxford X-Max 80. Содержание атомов Fe и Cr на поверхности танталового электрода составляло до 40% всех атомов. Ранее достигнутые результаты исследований ионно-плазменной технологии применительно к дезактивации реакторного графита были доложены по приглашению секретариата МАТАТЭ на техническом совещании «Technical Meeting on Processing Technologies for Irradiated Graphite Wastе», Вена, Австрия, 5-9 Августа 2024 года. Технология также запатентована совместно с ГК «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» [2].
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-29-00321, https://rscf.ru/project/24-29-00321/
1. С.Н. Орлов, А.А. Змитродан, В.В. Кривобоков, Теплоэнергетика, 5, 32 (2021).
2. А.С. Петровская, А.Б, Цыганов, М.Р. Стахив, Патент РФ №2711292, заявка EP 19888171.6, US 20210272715, CA3105179A1, КНР CN112655056A (2020).Speaker: Dr Анна Петровская (ООО "ИнноПлазмаТех") -
213
Utilization of B4C-W shielding to minimize neutron and gamma dose and flux attenuation
Nuclear fusion is pursued with distinct methodologies, including magnetic confinement fusion, inertial confinement fusion, and inertial electrostatic confinement fusion (IECF) [1]. The neutron and alpha particle emissions characteristic of D-T fusion exhibit dependency on fuel selection, with compositional modifications directly influencing resultant reaction outputs [2, 3]. As documented in the IEC book, the neutron flux generation rate of IEC device is $10^{6}$ to $10^{12}$ $\mathrm{s}^{-1}$ [4]. Consequently, radiation shielding optimization for this neutron-emitting apparatus must incorporate spectral considerations of fusion-generated neutrons and secondary particle emissions to ensure operational safety. Prior studies have established frameworks for shielding design and radiological hazard mitigation in such fusion systems [5, 6]. Among the investigated shielding materials for IECF devices, prior research has employed structures comprising paraffin, boric acid (H3BO3), wood, and stainless steel to achieve effective radiation attenuation [5]. Our previous research [7,8] successfully implemented shield design simulations for this system, demonstrating effective radiation mitigation capabilities.
But in this work, by simulating with the MCNPX code, the attenuation performance of B$_4$C and W layers was analyzed for D-T fusion neutron shielding. Boron carbide (B$_4$C) is a well-established thermal neutron absorber due to its high neutron capture cross-section [9], while tungsten (W) exhibits superior gamma-ray attenuation properties owing to its high atomic density [10]. This work evaluates the substitution of B$_4$C for boric acid (H$_3$BO$_3$) and W for lead (Pb) in multilayer shielding configurations to optimize neutron and gamma radiation attenuation for a 14.1 MeV deuterium-tritium (D-T) fusion neutron source. We simulated an IECF device with a neutron source strength of $10^{9}$ $\mathrm{s}^{-1}$ and isotropic angular emission with the MCNPX code. The distribution of energy is assumed as a Gaussian energy, defined by the 14.1 MeV neutron spectrum. Computational rigor was ensured by tracking $2\times 10^{6}$ particle histories (nps), resulting in statistical uncertainties below 1%. Neutron and gamma fluxes were quantified using F2 surface tallies, with dose calculations employing the DFn card (IU=2 configuration), standardizing dose units to $\mathrm{Sv}\cdot \mathrm{h}^{-1}$source$^{-1}$. Comparative analysis of shielding materials revealed that B4C-W configuration achieved gamma dose reduction (1.23 μSv), whereas H3BO3-W configuration demonstrated enhanced neutron attenuation (15.40 μSv). Gamma dosimetry results (1.23 μSv) were minimized using the W layer, while using H$_3$BO$_3$ with the W layer proved optimal for reducing neutron dose and flux (15.40 μSv). Material composition and material effects composition at fixed geometries reveal critical trade-offs in optimization and multifunctional radiation materials design. These results show a good improvement in reducing neutron and gamma doses compared to the results of previous studies, whose articles have also been published.
References
1. J. Black et al., Physical Review E 103(2), 023212 (2021).
2. Y.A. Chan et al., Vacuum 167, 482-489 (2019).
3. P.T. Farnsworth, No. US 3258402 (1966).
4. G.H Miley & S.K. Murali (2014). Inertial electrostatic confinement (IEC) fusion. Fundam. Appl.
5. S.M Lee et al., International Nuclear Atlantic Conference, Santos, Brazil 5088–5095 (2020).
6. M. Bakr et al., Radiation Research and Applied Sciences 17(2), 100908 (2024).
7. H. Zanganeh & M. Nasri Nasrabadi, Radiation Physics and Engineering 4(3), 29-41 (2023).
8. H. Zanganeh, & M.N. Nasrabadi, Radiation Physics and Chemistry 229, p.112495 (2025).
9. E. Mansouri et al., International Journal of Radiation Research 18(4), 611-622 (2020).
10. M. Asgari et al., Nuclear Engineering and Technology 53(12), 4142-4149 (2021).Speaker: Mehdi Nasri Nasrabadi (Faculty of Physics, University of Isfahan, 81746-73441, Isfahan, Iran; Joint Institute for Nuclear Research, Dubna 141980, Russia) -
214
Ключевые системные проблемы замкнутого ядерного топливного цикла
На данный момент, ядерная энергетика находится в стадии перехода от использования урана 235 для получения энергии ко второму этапу развития. То есть переходу к замкнутому ядерному топливному циклу, позволяющему эффективно использовать для получения энергии урана 238 и тория 232, запасы которых на два порядка больше, чем урана 235. В процессе этого возникают проблемы, которые отсутствуют при эксплуатации открытого ядерного топливного цикла. Целью моего исследования является поиск возможностей решения этих проблем на основе сценарного анализа развития системы ядерной энергетики.
Решение проблем дальнейшего развития атомной энергетики связано не с количеством реакторов, и даже не с их экономичностью и безопасностью в настоящее время, а с совершенством инфраструктуры системы, в которую они входят. Отсутствие замкнутого топливного цикла приводит к тому, что даже строительство очень дешевого и безопасного реактора только умножает проблемы, как со стороны дефицита природного урана, так и со стороны нарастающих объемов отвального урана и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Прогнозируемые энергетические потребности мира XXI века не ставят развитию ядерной энергетики верхнего предела, ее масштабы будут определяться возможностями устойчивого развития, удовлетворяющего набору базовых принципов развития сложных систем и требований будущих пользователей, анализировать которые следует уже сегодня с помощью сценарного анализа возможных условий и траекторий развития.
Основными проблемами, которые необходимо решить при переходе к ядерной энергетике с замкнутым ядерным топливным циклом, являются две глобальные проблемы: радиационная безопасность, связанная постоянным увеличением количеств различных радиоактивных нуклидов и снижение нейтронного потенциала ядерной энергетики, связанного со снижением количества добываемых и производимых делящихся нуклидов по отношению к добытому количеству урана 238 и тория, которые требуют конверсии их в делящиеся нуклиды плутония и урана 233 в нейтронном поле, источником которого пока является в основном уран 235.Speaker: Виктор Зайвый (НИЦ "Курчатовский институт", НИЯУ МИФИ)
-
212
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Experiment 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Валерий Кондратьев (Санкт-Петербургский государственный университет)-
215
PP – and DD – scattering simulation for Beam–Beam Counter of the Spin Physics Detector
The results of simulation of proton-proton and deuteron-deuteron scattering at total collision energies of √s = 6 and 10 GeV in the SPDRoot framework are presented. Based on the simulation of elastic and inelastic scattering processes, the possibility of selecting the pp and dd elastic scattering events using beam-beam counters is discussed. The results for the two well-known event generators, FRITIOFF and Pythia8, are compared. The simulation shows that the background contribution increases with increasing energy. For the maximum considered energy, the acceptable background level can be achieved only for the central rings.
Speaker: Arkadyi Terekhin (VBLHEP JINR) -
216
Study of spin effects with polarized beams at Nuclotron
Nuclotron complex gives the unique opportunity to study spin effects using polarized deuteron and proton beams from new polarized ion source. Recent results on the spin effects in deuteron-proton and proton-proton elastic scattering sensitive to the short-range spin structure of the nucleon-nucleon correlations are discussed.
The perspectives of further progress in physics program as well as in the development of the beam polarimetry and proton spin manipulation techniques are discussed.Speaker: Vladimir Ladygin (VBLHEP JINR) -
217
Experiment to demonstrate a possibility of creation of the tensor polarized heavy ion beam in the NICA injection complex
Various models of polarized nuclear matter are considered in astrophysical studies of neutron stars and magnetars (stars with magnetic fields up to ~1016 G). Recently, there has been a growing interest to study the nuclear orientation effect to the characteristics of non-spherical heavy-ion collisions. Thus, the possibility to carry out research with polarized heavy ions opens the way to obtain unique experimental data for astrophysical and heavy-ion research.
In the talk we discuss an experiment aimed to demonstrate formation of tensor polarized heavy ion beam in beam passage through a medium. The experiment is planned to be carried out in the NICA injection complex of LHEP of JINR with 21Ne ions accelerated to about 3.5 GeV/n.
To meet the beam intensity requirement of NICA collider program, the productivity of its injection complex needs to be increased by well above an order of magnitude relative to achievements of the previous Runs. The intensity increase will be accomplished by beam accumulation in Booster at the injection energy with usage of electron cooling and reduction of beam loss in the course of acceleration.
This drastic increase in number of ions enables obtaining the Tensor polarization achieved by large intensity reduction of primary ion beam. The polarization is achieved by beam passage through a target. Since, for nuclei with large quadrupole moment, the nuclear interaction length depends on ion the polarization the beam coming out of the target will have tensor polarization. To minimize effects of multiple scattering the target will be made out of small Z material (beryllium or lithium). For the target with thickness of about 4 nuclear lengths, and consecutive loss of ~98% of the beam, the tensor polarization of about 50% is expected.
The talk discusses:
• requirements to the intensity and time structure for the beam slowly extracted from Nuclotron,
• details of beam transport and beam focusing on the target,
• behavior of polarization in the bending magnetic fields,
• the beam collimation and the beam delivery to the detection system,
• the separation of outgoing 21Ne beam from fragments produced in the target and finding out the analyzing power of the experiment,
• and requirements to the detectors and their possible implementation.Speaker: Valeri Lebedev (JINR, Dubna, Russia) -
218
Spin observables in pd-pd and in dd→n+p+d processes at NICA SPD energies
Spin amplitudes of pN elastic scattering contain fundamental information on the dynamics of the NN-interaction and so far can not be derived from theory. Experimental data from systematic study of spin amplitudes of pp- and pn-scattering are collected in the SAID partial-wave analysis at kinetic energies below 3 GeV and 1.2 GeV, respectively [1]. At higher energies experimental data on spin amplitudes are rather incomplete for pp- and very scarce for pn-scattering, therefore, phenomenological models and corresponding parametrization of pN amplitudes [2-4] are used in analysis. Complete polarization experiment can provide spin amplitudes of pN- scattering, but is very complicated because requires measurement of ten and more observables at each collision energy. On the other hand, an effective test of existing spin pN-amplitudes can be provided by measurement of spin observables of pd-elastic scattering, that is the simplest process which charakteristics can be calculated on the basis of the spin-dependent Glauber theory of multistep scattering [5,6] involving both the pp- and pn-amplitudes.
Asymmetric mode of pd-collision will be not realized at the NICA SPD collider, but the symmetric dd-mode will be done. While the elastic dd-scattering also can be used as a test of pN- helicity amplitudes, this process is more complicated as compared to the pd-pd, and the spin dependent Glauber theory for dd→dd is not yet developed. In this situation we have found that spin observables $A^p_y$, $A_y^d$, $A_{yy}$, $С_{y,y}$ of the dd→ npd reaction for the pole mechanism of the quasi-free pd-elastic scattering are directly related to the corresponding spin observables of the free pd- elastic scattering, for those the spin-dependent Glauber theory [5,6] with existing models of the pN spin amplitudes at suitable energies [3-5] can be applied. Most of these observables a very sensitive to contribution of spin pN amplitudes and therefore a comparison of results of such calculations with expected NICA SPD data on quasi-free pd-scattering will provide an effective test of the phenomenological pN amplitudes [7]. Furthermore, the tensor analyzing power $A_{yy}$ in pd-pd is rather large at non-zero relative momentum of nucleons in the deuteron and much less sensitive to spin pN-amplitudes and, therefore, can be used for tenzor polarimetry at SPD NICA energies. Preliminary Monte-Carlo simulations indicate the feasibility of such measurements at the first stage of the SPD detector and more detailed studies are still being performed.List of references
[1] R. Arnd, W. Briscoe, I. Strakovsky et al., Phys. Rev. C 76 (2007) 025209.
[2] A. Sibirtsev, J. Haidenbauer, S. Krewald, U.-G.Meissner, Eur. Phys. J. A 45 (2010) 357-372 e-Print: 0911.4637 [hep-ph]
[3] O.V. Selyugin, Phys.Rev.D 110 (2024) 11, 114028 ; e-Print: 2407.01311 [hep-ph].
[4] W.P. Ford, J. van Orden, Phys. Rev. C 87 (2013).
[5] M.N. Platonova, V.I. Kukulin, Phys.Rev.C 81 (2010) 014004, Phys.Rev.C 94 (2016) 6, 069902; (erratum) e-Print: 1612.08694 [nucl-th]
[6] M.N. Platonova, V.I. Kukulin, Eur.Phys.J.A 56 (2020) 5, 132; e-Print: 1910.05722 [nucl-th]
[7] Yu. Uzikov, A. Bazarova, A. Temerbaev, Phys. Part. Nucl. 53 , N2 (2022) 419 .Speaker: Yuriy Uzikov (JINR) -
219
Probing $J/\psi$ production mechanisms in proton–proton collisions at SPD/NICA energies
The Spin Physics Detector (SPD) at NICA offers a unique opportunity to investigate heavy quarkonium production in proton–proton collisions at a center-of-mass energy of $\sqrt{s} = 27$ GeV, an energy regime bridging the gap between fixed-target and collider experiments. In this study, we focus on $J/\psi$ production as a promising channel to explore gluon-dominated processes and access the underlying partonic dynamics. The work aims to identify the most sensitive probes and kinematic observables to isolate the dominant production mechanisms at SPD energies. Particular attention is given to leading-order contributions, with a comparative investigation of potential higher-twist effects within both collinear and, where applicable, TMD frameworks. Simulations are performed using the PEGASUS event generator with modern TMDPDFs, and differential distributions such as $d\sigma/dp_{T}$ and $d\sigma/d{y}$ are analyzed. These studies are expected to shed light on the relative importance of color-singlet and color-octet channels and guide future measurements at SPD. This study will help to determine the best experimental observables for shaping spin-dependent particle production mechanisms.
Speaker: Dr Shubham Sharma (Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), 141700 Dolgoprudny, Russia)
-
215
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Theory 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Alexey Aparin (JINR)-
220
Precision molecular experiments as a tool in the search for New Physics
Molecules that include heavy element atoms can be utilized in precision experiments to investigate "new" physics beyond the Standard Model, specifically by examining violations of spatial parity (P) and time reversal (T) symmetries in fundamental interactions. A prominent candidate for T and P violation in molecules is the electric dipole moment (EDM) of the electron [1]. Currently, a non-zero EDM for the electron has not been observed, but limits on its value have been established. The most precise limit was determined by the JILA group through experiments involving hafnium monofluoride (HfF$^+$) molecular cations [2]. Furthermore, an upcoming experiment with the barium monofluoride (BaF) molecule is expected to provide a similarly close independent constraint [3].
The violation of time reversal (T) and parity (P) symmetries in fundamental interactions within molecules can occur not only due to the electron electric dipole moment (eEDM) but also through the exchange of virtual axion-like particles between electrons and between electrons and nuclei. In this study, we explored this phenomenon in the HfF$^+$ molecular cation and the BaF molecule. Our calculations for the electron-nucleus interaction incorporated the finite size of the nucleus. By analyzing the molecular parameters related to these interactions, we established constraints on the products of interaction coupling constants that align with the current sensitivity of the HfF$^+$ experiment [2] and the anticipated sensitivity of future BaF experiments [3]. The results were published in references [4] and [5]. Furthermore, we will present new insights into parity violation effects that were not addressed in those publications.
Calculation of potential energy surface were supported by the Russian Science Foundation Grant No. 24-12-00092. Calculations of matrix elements and development of corresponding code were supported by the Foundation for the Advancement of Theoretical Physics and Mathematics “BASIS” Grant according to Project No. 24-1-1-36-2.
References
- M.S. Safronova, D. Budker, D. DeMille, D.F.J. Kimball, A. Derevianko, C.W. Clark, Reviews of Modern Physics 90.2: 025008 (2018).
- T.S. Roussy, L. Caldwell, T. Wright, W. B. Cairncross, Y. Shagam, ... & Cornell E. A., Science 381.6653: 46-50 (2023).
- A. Boeschoten et al., arXiv:2303.06402 (2023)
- S. D. Prosnyak, D. E. Maison, L. V. Skripnikov, Updated Constraints on T, P-Violating Axionlike-Particle-Mediated Electron–Electron and Electron–Nucleus Interactions from HfF+ Experiment, Symmetry 15(5), 1043 (2023).
- S. D. Prosnyak, L. V. Skripnikov, Axion-mediated electron-nucleus and electron-electron interactions in the barium monofluoride molecule, Phys. Rev. A 109, 042821 (2024).
Speaker: Sergey Prosnyak (NRC «Kurchatov Institute» - PNPI) -
221
Isospin symmetry of $\omega$ meson at finite temperature in the soft-wall model of holographic QCD
The coupling constants of $\rho$ meson-nucleon and $\omega$ meson-nucleon are connected through the isospin relation. Using the soft-wall model of holographic QCD, the current work aims to examine the violation (if any) of isospin symmetry of the $\omega$-meson as well as the temperature dependency of the $\omega$-meson-$\Delta$ and $\omega$-meson-nucleon-$\Delta$ baryon coupling constants. Applying the temperature-dependent profile functions of the vector and fermion fields to the expression of the coupling constants in the model yields the temperature dependence of the coupling constants. The minimum and magnetic type interactions between vector and fermion fields in 5-dimensional AdS space-time are included in the written interaction Lagrangian terms. The temperature dependence of the coupling constants $g_{\omega N N}(T)$, $g_{\omega \Delta \Delta}(T)$, and $g_{\omega N \Delta}(T)$ has been investigated. Comparing $g_{\omega NN}(T)$ with the coupling constant $g_{\rho NN}(T)$, it is found that the isospin symmetry of the $\omega$ and $\rho$ mesons is not violated at the finite temperature. It is also observed that the coupling constant of the $\omega$ meson with baryons decreases as the temperature increases, and this coupling constant becomes zero near the confinement-deconfinement phase transition temperature.
Speaker: Narmin Nasibova (Institute of Physics, Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan) -
222
Условие унитарности амплитуды и эффект гало в pp рассеянии при энергиях БАК
В эксперименте TOTEM [1] на Большом Адронном Коллайдере в протон-протонном рассеянии наблюдался, так называемый, эффект гало [2-4], состоящий в том, что при начальной энергии более 7 ТэВ максимально возможное значение сечения неупругого процесса достигается не при нулевом значении прицельного параметра, как это имело место при более низких энергиях. В настоящей работе рассматривается простое описание этого явления, вытекающее из требования унитарности для амплитуды рр-рассеяния.
Показано также, что если для амплитуды рр-рассеяния использовать стандартное квазиэйкональное реджевское приближение, то условие унитарности амплитуды допускает значения квазиэйконального параметра $C$ меньшие 1 (начиная со значения 1/2), которые обычно исключаются в традиционных подходах из-за выражения для сечения недифракционных процессов, получающегося при использовании правил АГК [5]. Отметим, что необходимость иметь значения $C$ меньшие 1 при фитировании высокоэнергетических экспериментальных данных возникала и в более ранних работах [6,7].
Найдено, что использование значений квазиэйконального параметра $C$ меньших 1 позволяет также описать тот экспериментально наблюдаемый факт, что при начальной энергии более 7 ТэВ упругое сечение pp рассеяния начинает превышать 1/4 полного сечения [1]. Этот факт не удается описать при значениях $C \geq 1$. Обсуждается также соответствие этих ограничений на величину квазиэйконального параметра $C$ с традиционной интерпретацией дифракционных процессов и правилами АГК [5].
Автор выражает благодарность Санкт-Петербургскому государственному университету за исследовательский проект 103821868.Литература- T. Csorgo, for the TOTEM Collaboration, Recent Results from the CERN LHC Experiment TOTEM, ArXiv: 1903.06992 [hep-ex] (2019).
- I.M. Dremin, JETP Letters 99, 243–245 (2014).
- I.M. Dremin, JETP Letters 100, 491–493 (2014).
- I.M. Dremin, Bulletin of the Lebedev Physics Institute 42, 21–25 (2015).
- V.A. Ahramovsky, V.N. Gribov and O.V. Kancheli, Yad. Fiz. 18 (1973) 595.
- V.A. Abramovsky, N.V. Abramovskaya and N.V. Evstigneeva, International Journal of Modern Physics A 31, 1645013 (2016).
- V.N. Kovalenko, A.M. Puchkov, V.V. Vechernin, D.V. Diatchenko, IEEE Xplore, IEEE Conference Publications, 7354853; arXiv:1506.04442 [hep-ph] (2015).
Speaker: Владимир Вечернин (Санкт-Петербургский государственный университет) -
223
Employing Monte-Carlo codes for muon capture experiments
This study employs the Monte Carlo code MCNP6 to simulate the behavior of a negative muon beam (4.2 MeV, 30,000 μ⁻/s) as it interacts with the experimental setup of the OMC4DBD (Ordinary Muon Capture for Double Beta Decay) campaign, featuring a BaCO3 target (95% Ba-136 enriched) and surrounding scintillators (C0-C3). The simulation tracks muons from the beam entrance, through attenuation in scintillators, to interactions at the target and beyond, including decay into electrons and secondary particle production. Results reveal a 34% reduction in muon beam intensity, attributed to 25% attenuation in scintillators and 9% decay into electrons, consistent with a muon lifetime of ~2.2 μs and material interactions.
Speaker: Abdullah Shehada (Joint Institute of Nuclear Research) -
224
Towards understanding of enhanced production of strange particles in nucleus-nucleus interactions at high energies
Recently, the NA61/SHINE collaboration published experimental data on the production of $\pi^\pm$ and $K^\pm$ mesons in central ${\rm ^{40}Ar+{}^{45}Sc}$ interactions at variouse energies. The collaboration compared its results with calculations of the theoretical Monte Carlo models -- EPOS 1.99, PHSD 4.1 and SMASH 2.1.4. It turned out that none of these models reproduces the data in full. All models significantly underestimate the yields of $K^+$ and $K^-$ mesons by a factor of $\sim$ 2. In this paper, an attempt is made to describe the yields of $K^+$ and $K^-$ mesons within the framework of the quark-gluon string model implemented in the DCM program -- Dubna Cascade Model. According to this model, strings formed between the "sea" quarks and antiquarks of colliding nucleons should be dominated in central nucleus-nucleus interactions . To achieve an agreement with the experimental data, it is necessary to assume that strange quarks and antiquarks dominate among the "sea" quarks and antiquarks. The probability of finding a pair of strange quark -- strange antiquark is 72 \%! This value seems unrealistic. It may be related to an incorrect implementation of the quark-gluon string model in the DCM. It is of interest to obtain the corresponding predictions of the modern EPOS and QGSJET models.
Speaker: Vladimir Uzhinsky (LIT JINR)
-
220
-
5. Physics of neutrino and nuclear astrophysics РХО ПИБ (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
РХО ПИБ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Ирина Архангельская (НИЯУ МИФИ)-
225
Theoretical modeling of pp collision-induced neutrino emission from astrophysical sources
Understanding the origin of high-energy astrophysical neutrinos is one of the key challenges in modern multi-messenger astronomy. In this study, we present a comprehensive theoretical model to estimate the neutrino flux from various astrophysical sources, including starburst galaxies [1], galaxy clusters [2], and supernova remnants (SNRs). Our approach is grounded in diffusive shock acceleration (DSA) theory, through which we calculate the energy spectrum of cosmic-ray protons accelerated at shock fronts within these environments [3,4]. These high-energy protons are assumed to interact with ambient matter via inelastic proton-proton (pp) collisions, producing charged pions that subsequently decay into neutrinos. By incorporating realistic astrophysical parameters and environmental conditions for each source type, we evaluate the resulting neutrino energy spectra and fluxes. The analysis shows that, for extragalactic sources such as starburst galaxies and galaxy clusters, the predicted neutrino fluxes are below the current detection thresholds of existing neutrino observatories like IceCube and KM3NeT [1,2]. However, in the case of SNRs within our Galaxy, while individual sources may still produce weak neutrino signals, the cumulative signal from multiple remnants analyzed through stacking techniques could yield detectable signatures. This suggests that SNRs remain promising targets for neutrino detection efforts. Our findings highlight the importance of source selection and observational strategies when searching for astrophysical neutrinos and provide theoretical guidance for future observations and mission planning in the era of multi-messenger astrophysics.
- Ha, J.-H., Ryu, D., Kang, H., The Astrophysical Journal, 907, 26 (2021)
- Ha, J.-H., Ryu, D., Kang, H., The Astrophysical Journal, 892, 86 (2020)
- Ha, J.-H., Astrophysics, 67, 330 (2024)
- Ha, J.-H., Astrophysics and Space Science, 370, 27 (2025)
Speaker: Ji-Hoon Ha (Korea Space Weather Center, Korea AeroSpace Administration) -
226
Dynamo and oscillation effects in supernova neutrino spectra
The neutrino dynamics in hot and dense magnetized matter corresponding to a supernova explosion is considered. It is shown that accounting for fluctuations during interaction of neutrinos with matter leads to the Fokker-Planck equation for the dynamics of the phase space distribution function. The additional to the energy transfer effect component of the kinetic equation is determined by straggling in neutrino collisions with a magnetized nucleon gas caused by the neutral current Gamow-Teller interaction. When accounting for the effect of fluctuations, the switching of acceleration and deceleration modes of neutrino dynamics remains for average energy. The effect of fluctuations leads to an additional increase in the hardness of the neutrino spectra. It is shown that the high-energy component of the electron antineutrino flux is enhanced in addition due to the effect of neutrino oscillations. Such an increase in the high-energy component of the spectrum is especially noticeable in the case of the inverted mass ordering and makes the signal more registrable by ground-based detectors. The possibilities of detecting supernova neutrinos by KM3NeT and Baikal-GVD observatories are discussed.
Speaker: Vladimir Kondratyev (JINR) -
227
Simulation of the background from $^{13}$C($\alpha$, $n$)$^{16}$O reaction in the JUNO scintillator
The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), a large-scale organic liquid scintillator detector, will begin data collection this year. JUNO's primary and ultimate goal is to determine the neutrino mass ordering. To answer this fundamental question, the fine structure in the oscillated reactor antineutrino energy spectrum must be resolved. This experimental approach requires serious efforts in background reduction of the target liquid scintillator and then precise monitoring of its residual radioactivity. Antineutrinos are detected through the inverse beta decay reaction, so one possibly significant background is the ($\alpha$, $n$) reaction, which occurs on $^{13}$C nuclei. The sources of the $\alpha$ particles are the decays of intrinsic contaminants such as $^{238}$U, $^{232}$Th, $^{210}$Pb/$^{210}$Po and their daughters. The ($\alpha$, $n$) background evaluation was performed in two steps, namely $^{13}$C($\alpha$, $n$)$^{16}$O reaction modelling and simulation of the detector response. The open source Geant4-based software SaG4n was used for the first step, calculating the expected energy depositions from the neutron, associated de-excitation products and the $\alpha$ particle propagating in the medium until the ($\alpha$, $n$) interaction occurs. This data was the input for the second step of the calculation, when all the produced particles were run with a new event generator and tracked in the JUNO detector within a dedicated Monte Carlo simulation package. Expected ($\alpha$, $n$) background event rates and respective energy spectra have been obtained for all $\alpha$ particle sources ($^{238}$U and $^{232}$Th chains and $^{210}$Pb/$^{210}$Po), considering JUNO's predicted radioactivity concentration. Corresponding uncertainties were also evaluated. Finally, it is important to note that the simulation pipeline and its outcomes are applicable and relevant to other organic liquid scintillator neutrino detectors and may be useful in direct detection dark matter experiments.
Speaker: Maxim Gromov (SINP MSU, JINR) -
228
Excitation of the Glashow resonance without neutrino beams
The $s$-channel process $\bar\nu_ee^-\rightarrow W^-$ (on-shell), usually referred to as the Glashow resonance, is now being searched for at kilometer-scale neutrino ice/water detectors like IceCube, Baikal-GVD or KM3NeT. After over a decade of observations, IceCube has recorded only a few relevant neutrino events such that further exploration yet remains necessary for unambiguous confirmation of the existence of this resonant interaction [1]. Meanwhile, its experimental discovery would provide an additional important test of the Standard Model. In view of this, one might ask: are there reactions with the Glashow resonance that would not necessitate having initial (anti)neutrino beams? We suggest a positive answer to the question - the process could proceed in electron-positron collisions at accelerator energies, occurring, for instanse, as $e^+e^-\rightarrow W^-\rho(770)^+$. Although the resonance appears somewhat disguised, the underlying physics is transparent and analogous to the well known radiative return: emission of $\rho^+$ from the initial state converts the incident $e^+$ into $\bar\nu_e$. Likewise, the CP conjugate channel, $\nu_e e^+\rightarrow W^+$, takes the form $e^+e^-\rightarrow W^+\rho(770)^-$. Similar reactions with other mesons and leptons are also possible. Future high-luminosity lepton colliders seem to be promising for excitation of the Glashow resonance in laboratory conditions. More details can be found in [2].
- M. G. Aartsen ${\it \text{et al.}}$ [IceCube Collaboration], Nature ${\bf 591}$, 220 (2021).
- I. Alikhanov, arXiv:2504.02820.
Speaker: Ibragim Alikhanov (North-Caucasus Federal University, Russia) -
229
Экспериментальные поиски солнечных аксионов
Аксионы решают проблему отсутствия СР-нарушения в сильных взаимодействиях и являются хорошо мотивированными кандидатами на роль частиц темной материи. Существование аксионов могло бы объяснить слишком быстрое охлаждение некоторых звезд и аномальную прозрачность Вселенной для Тэв-ных гамма-квантов.
Интенсивные потоки аксионов могут рождаться в Солнце в целом ряде процессов. Ожидаемый энергетический спектр солнечных аксионов, подобно спектру солнечных нейтрино, содержит как непрерывную часть, так и монохроматические линии. Непрерывный спектр имеют аксионы, которые возникают при конверсии фотонов в электромагнитном поле плазмы, а также аксионы, рождающиеся как тормозное излучение, в комптоновских и в атомных процессах. Монохроматические аксионы испускаются в ядерных реакциях рр-цепочки и CNO-цикла, и в магнитных переходах в ядрах, низколежащие уровни которых возбуждаются за счет высокой температуры в центре Солнца.
Регистрация аксионов основана на эффективных константах связи аксионов с фотонами, электронами и нуклонами. В докладе приводятся ожидаемые потоки и спектры солнечных аксионов, базисные реакции рождения и регистрации аксионов, представлены основные результаты поиска аксионов и аксионо-подобных частиц. Более подробно обсуждаются эксперименты по обнаружению резонансного поглощения солнечных аксионов атомными ядрами и аксиоэлектрического эффекта в атомах, выполненные в лабораториях.
Работа поддержана грантом РНФ - № 24-12-00046.Speaker: Александр Дербин (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ)
-
225
-
16:00
кофе-брейк
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
70(2013)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Николай Мальцев (Санкт-Петербургский государственный университет)-
230
Исследование структуры ядерной материи в инклюзивных ($p, p'$) - экспериментах при энергии 1 ГэВ
В ПИЯФ исследуется инклюзивная ($p, p'$) - реакция с ядрами $^{9}$Be, $^{12}$C, $^{28}$Si, $^{40}$Ca, $^{56}$Fe и $^{90}$Zr с использованием магнитного спектрометра, в фокальной зоне которого расположен поляриметр на основе пропорциональных камер и углеродного анализатора [1]. Измеряются сечение реакции и поляризация вторичного протона в зависимости от величины его импульса $K$ [1 - 4]. Область исследования охватывает квазиупругий $pN$ - пик, вплоть до импульса, соответствующего упругому рассеянию на ядре. При угле рассеяния 21$^\circ$ поляризация вторичных протонов ступенчато растет с ростом их импульса [1, 3, 4]. Наблюдается ступенчатое изменение от $K$ отношения сечения рассеяния на ядрах $^{28}$Si, $^{40}$Ca, $^{56}$Fe, $^{90}$Zr к сечению рассеяния на ядре $^{12}$C [2 - 4]. Эти наблюдения возможно связаны с упругим рассеянием на двухнуклонных ($^{2}$H), трехнуклонных ($^{3}$He,$^{3}$H) и четырехнуклонных ($^{4}$He) корреляциях в ядрах. Обнаружены наплывы в высокоимпульсной части спектров протонов, рассеянных на ядрах $^{12}$C и $^{9}$Be [5]. Согласно расчетам положение этих наплывов отвечает упругому рассеянию на нуклонных кластерах: $^{8}$Be, $^{9}$Be и $^{9}$B, $^{10}$B и $^{8}$Be, соответственно. Измерена поляризация в рассеянии на нуклонном кластере $^{8}$Be. Широкий пик в рассеянии на ядре $^{9}$Be [4] возможно отвечает рассеянию на кластере $^{8}$Be с возбуждением последнего. При этом энергия возбуждения близка к 17 МэВ. Поляризация в рассеянии с возбуждением кластера $^{8}$Be примерно в два раза больше, чем в рассеянии на невозбужденном кластере.
1. O.V. Miklukho $et~al.$, Phys.Atom.Nucl. ${\bf 80}$, 299 (2017).
2. O.V. Miklukho $et~al.$, JEPT Letters ${\bf 106}$, 69 (2017).
3. O.V. Miklukho $et~al.$, Phys.Atom.Nucl. ${\bf 81}$, 320 (2018).
4. O.V. Miklukho $et~al.$, Phys.Atom.Nucl. ${\bf 83}$, 431 (2020).
5. O.V. Miklukho $et~al.$, arXiv:2102.04109v1 [nucl-ex] 8 Feb 2021.Speaker: Олег Миклухо (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) -
231
Одночастичная структура сверхтяжелых ядер в дисперсионной оптической модели
Изучение сверхтяжелых ядер помогает ответить на фундаментальные вопросы о пределах существования элементов и границах карты ядер, а также лучше понять процессы нуклеосинтеза во Вселенной. Нами выполнены предсказательные расчеты одночастичных характеристик сверхтяжелых ядер с $\it{Z}$ от 114 до 126 и $\it{N}$ от 164 до 228, а также гипотетического гипертяжелого ядра $^{472}164$ в дисперсионной оптической модели [1] с использованием ряда глобальных параметров [2, 3]. Вычисленные энергетические щели соответствуют магическим числам $\it{N}$ = 126, 148, 164, 178, 184, 228, 246 и $\it{Z}$ = 82, 92, 114, 120, 126. Центральная ядерная плотность характеризуется истощением (пузырьковой структурой) при $\it{N}$ от 164 до 180. Такая особенность влияет на одночастичную структуру сверхтяжелых ядер [4] за счет зависимости спин-орбитального взаимодействия от плотности ядра. Также выполнены расчеты одночастичной структуры гипотетического гипертяжелого ядра $^{472}164$ с магическими числами $\it{N}$ = 308 и $\it{Z}$ = 164, предсказываемыми в ряде подходов [5].
Список литературы
- C. Mahaux, R. Sartor. Adv. Nucl. Phys. $\bf{20}$,1 (1991).
- A.J. Koning, J.P. Delaroche. Nucl. Phys. A. $\bf{713}$, 231 (2003).
- C. D. Pruitt J. E. Escher, and R. Rahman. Phys. Rev. C. $\bf{107}$, 014602 (2023).
- M. Bender, K. Rutz, P.-G. Reinhard et al. Phys. Rev. C. $\bf{60}$, 034304 (1999).
- M. Bender, W. Nazarewicz, P.-G. Reinhard. Phys. Lett. B $\bf{515}$, 42 (2001).
Speaker: Максим Мосунов (Физический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова) -
232
Giant Dipole and Spin Magnetic Quadrupole Resonances within Wigner Function Moments method
The nuclear collective motion of the rotational type was comprehensively investigated within the Wigner Function Moments (WFM) method in the series of papers [1-3]. The present study is devoted to Giant Dipole Resonance (GDR) and Spin Magnetic Quadrupole Resonance in heavy even-even nuclei. The calculations are based on the Time Dependent Hartree–Fock (TDHF) equations for the density matrix.
The microscopic Hamiltonian is the harmonic oscillator with the spin-orbital potential plus separable dipole-dipole, quadrupole-quadrupole and spin-dipole interactions. The Fourier (Wigner) transform converts the initial TDHF equations
into the equations for the spin-dependent Wigner function. Integrating these equations over the phase space (r, p) with the weights $r_\mu$ and $p_\mu$ one gets the equations that describe the coupled dynamics of irreducible tensors associated with the electrical dipole ($E1$) and magnetic quadrupole ($M2$) responses. The derived equations are solved in the small amplitude approximation.The energies of $M2$ isovector and isoscalar excitations as well as the spin contribution to the corresponding transition strengths, determined by first-rank tensors, are estimated for $^{208}$Pb and $^{90}$Zr. The energy position of the GDR and the corresponding transition probability are also calculated. The results of the calculations are compared with the available experimental data and with the recent microscopic analysis of $2^-$ excitations
in even-even nuclei within the framework of the relativistic energy density functional theory [4].References
-
E. B. Balbutsev, I. V. Molodtsova, and P. Schuck, Phys. Rev. C 88, 014306 (2013); ibid., 91, 064312 (2015); 97, 044316 (2018);
-
E. B. Balbutsev, I. V. Molodtsova, A. V. Sushkov, N. Yu. Shirikova, and P. Schuck, Phys. Rev. C 105, 044323 (2022).
-
E. B. Balbutsev and I. V. Molodtsova, Eur. Phys. J. A 59, 207 (2023); ibid., 60, 185 (2024).
-
G. Kruzic, T. Oishi, and N. Paar, Eur. Phys. J. A 59, 50 (2023).
Speaker: Irina Molodtsova (Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna) -
-
233
Изучение структуры ядер 9Be$, 10,11B в оболочечной модели деформированного ядра
Структура ядер ${}^9Be$, ${}^{10,11}B$ рассчитана в оболочечной модели деформированного ядра с использованием численного метода, основанного на разложении волновых функций нуклонов по функциям Бесселя [1, 2]. Определены форма и параметры потенциала среднего поля, обеспечивающие согласие результатов расчета радиальных зарядовых распределений с экспериментальными данными. Показано, что пространственная структура протонной и нейтронной плотностей вероятности ядер ${}^9Be$, ${}^{10,11}B$ близка к «молекулярной» структуре из двух альфа-кластеров и от одного до трех «валентных» нуклонов. Таким образом, для рассмотренных легких ядер применение оболочечной модели деформированного дает результаты, близкие к результатам альфа-кластерной модели [3-7].
- В.В. Самарин, ЯФ, 78, 133 (2015).
- В.В. Самарин, ЯФ, 73, 1461 (2010).
- W. von Oertzen, M. Freer, Y. Kanada En’yo, Phys. Rep., 432, 43 (2006).
- M. Freer, Rep. Prog. Phys., 70, 2149 (2007).
- V.V. Samarin, Eur. Phys. J. A, 58, 117 (2022)
- В. В. Самарин, Изв. РАН. Сер. физ., 85, 655 (2021).
- A. S. Bazhin, V.V. Samarin, Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys., 88, 1177 (2024).
.
Speaker: Вячеслав Самарин (ОИЯИ) -
234
Метод Моментов Функции Вигнера
Метод Моментов Функции Вигнера (МФВ) является эффективным инструментом для описания коллективного движения в атомных ядрах (и любых других многочастичных системах). В данной работе поясняется его суть и перечисляются основные достижения. Решение этим методом зависящих от времени уравнений Хартри-Фока-Боголюбова (ХФБ) позволило найти энергии и вероятности возбуждения гигантских резонансов (изоскалярного и
изовекторного квадрупольного, изоскалярного (компрессионного) и изовекторного дипольного [1]) и различных низколежащих мод. Особый интерес среди последних представляют "ядерные ножницы", теория которых была построена с помощью МФВ метода. Построение теории привело к открытию двух новых типов ядерных ножниц, существование которых обязано спиновым степеням свободы нуклонов (спиновые ножницы) [2].Коллективными переменными МФВ метода являются неприводимые тензоры различных рангов. Посредством анализа тензоров второго ранга удалось обнаружить наличие так называемых "скрытых угловых моментов" атомного ядра. Эта особенность атомных ядер делает возможным классифицировать их как антиферромагнетики. Антиферромагнетизм атомных ядер проявляется в расщеплении уровней энергии при нулевой деформации (Зееман эффект) [3].
Главной особенностью МФВ метода, отличающей его от метода случайных фаз, является то, что он работает с динамическим средним полем.
В результате отпадает необходимость вводить остаточное взаимодействие и не возникают "духовые" состояния. Фактически из ХФБ уравнений извлекается точная информация о динамике средних значений различных операторов. Единственное (и неизбежное) приближение -- это пренебрежение зацеплением с динамикой тензоров (моментов) более высокого ранга. Несомненным достоинством МФВ метода является возможность изучать движения как малых, так и больших амплитуд [4].Литература:
-
E. B. Balbutsev, J. Piperova, M. Durand, I.V. Molodtsova, and
A. V. Unzhakova, Nucl. Phys. A 571, 413 (1994). -
E. B. Balbutsev, I.V. Molodtsova, A. V. Sushkov, N. Yu. Shirikova, and
P. Schuck, Phys. Rev. C 105, 044323 (2022). -
E. B. Balbutsev and I.V. Molodtsova, Int. J. Phys. 33 №12, 2441031 (2024).
-
E. B. Balbutsev and P. Schuck, ЯФ 60 №5, 855 (1997).
Speaker: Евгений Бальбуцев (ОИЯИ) -
-
235
Исследование испарительных каналов реакций полного слияния с тяжелыми ионами, приводящих к образованию ядер с 86 ≤ Z ≤ 94.
В рамках экспериментов на пучках тяжелых ионов ускорителей ЛЯР, с использованием сепараторов GRAND [1] и SHELS [2-3], в реакциях полного слияния 22Ne+198Pt и 26Mg+204,206,208Pb измерялись сечения образования ядер-испарительных остатков (ER), в каналах xn, 𝛼xn и pxn (см Рис 1). Изучались свойства радиоактивного распада нейтронодефицитных изотопов 213-215Ra и 226-230Pu и их дочерних продуктов.
Рис 1. Функции возбуждения образования испарительных каналов xn и αxn для реакции 26Mg+208Pb. Символы – экспериментальные данные, линии – теоретический расчет, выполненный в программе NRV [4].
[1] Kuznetsova A.A., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2023, Vol. 87, No. 8, pp. 1105–1111.
[2] Yeremin, A.V., Popeko, A.G., Malyshev, O.N., et al., Phys. Part. Nucl. Lett., 2015, vol. 12, no. 1, p. 35.
[3] Yeremin, A.V., Popeko, A.G., Malyshev, O.N., et al., Phys. Part. Nucl. Lett., 2015, vol. 12, no. 1, p. 43.
[4] https://nrv.jinr.ru/Speaker: Алена Кузнецова (ОИЯИ)
-
230
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Филологический факультет, 198, Турецкий кабинет
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Дмитрий Любашевский (Воронежский Государственный Университет)-
236
Nucleon clustering modelling in heavy nuclei fission taking into account the Coulomb interaction
Recent experimental and theoretical studies have shown that it is the clustering mechanism that underlies the formation of various fission modes of heavy nuclei [1-4]. The ability to model locally strong and Coulomb interactions of nucleons at the nuclear scale using a new distributed approach and the development of high-performance computing allow a better understanding of the details of the evolution of the cluster structure of heavy nuclei in fission process.
The emergence of the magic clusters within the fissioning nuclei and understanding the various structures they create has been a long-standing area of study. In paper [5] a novel mathematical model of nucleon clustering dynamics that explores networked multi-agent system technique was proposed. Cluster stabilization in this framework corresponds to minimizing the Laplacian potential of particles communication graph [6].
In this paper, we determine particle interaction according to the nearest neighbor rule [7]. Developed algorithm is aimed at modelling the occurrence of collective nucleon aggregation due to short-range mutual interaction taking into account the effect of coulomb interaction. Numerical simulations were performed for ten nuclei in the actinide region.1 H. Paşca, G.G. Adamian, N.V. Antonenko, Phys. Lett. B 864, 13944 (2025).
2 M.R. Pahlavani, M. Saeidi Babi, Chinese Physics C, (2025).
3 Y.V. Pyatkov, V.V. Pashkevich, A.V. Unzhakova et al., Nucl. Phys. A 624, p. 140 (1997).
4 R.V. Jolos, Y.V. Palchikov, V.V. Pashkevich, A.V. Unzhakova, Nuovo Cimento 110, p. 941 (1997).
5 Y.V. Ivanskiy, A.V. Unzhakova, Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 88, p. 1267 (2024).
6 H. Zhang, F.L. Lewis, A. Das, IEEE Transactions on Automatic Control. 56, p. 1948 (2011).
7 A. Jadbabaie, J. Lin, and A.S. Morse, IEEE Transactions on Automatic Control 48, p. 2953 (2003).Speaker: Anna Unzhakova (Saint Petersburg State University) -
237
Probing role of two neutron excess projectile: An exclusive study on incomplete fusion dynamics
Study of heavy-ion induced nuclear reactions has been an active area of investigation for last couple of decades [1-3]. In the present work, the excitation function of fusion-evaporation residues populated through complete fusion (CF) and incomplete fusion (ICF) for 18O + 103Rh system are measured in the energy range of 3 to 6 Mev/A. The off-line γ-ray spectroscopy associated with high purity HPGe Clover detector method was employed. The measured residual cross were analyzed with the theoretical estimations from statistical model code PACE4 to understand the reaction mechanisms involved in the low energy region. It has been observed that the measured excitation functions of xn and pxn emission channels agree well with the theoretical predictions of PACE-4. Furthermore, the measured excitation functions of α-emission channels are found to be significantly enhanced over their theoretical predictions. The enhancement of cross-section values over theoretically obtained may be assigned to incomplete fusion process. An attempt has also been made to evaluate the incomplete fusion strength function for 18O+103Rh and is compared with that obtained for the 16O+103Rh system [4]. It has been found that two neutron excess projectile (18O) contributes more to incomplete fusion as compared to 16O projectile. The reason may be due to alpha-Q value of projectile. Moreover, a strong dependency of incomplete fusion fraction has been found with Coulomb factor and mass asymmetry of interacting partners.
References:
[1] A. Agarwal et al., Phys. Rev. C 103, 034602 (2021).
[2] A. K. Jashwal et al., Eur. Phys. J. Plus 138, 1069 (2023)
[3] K. Kumar et al., Phys. Rev. C 87, 044608 (2013).
[4] U. Gupta et al., Nucl. Phys. A 811, 77 (2008).Speaker: SATYAM GANGWAR (Department of Physics, Bareilly College, MJP Rohilkhand University Bareilly-243006, India) -
238
Decay of the spontaneous fission isomers in the Coulomb field of third nucleus
Spontaneous ternary decay of the 252Cf was observed in series of experiments carried out in Flerov Lab. of Nuclear Reactions, JINR [1-3]. In those experiments, the existence of a new type of ternary decay in the reaction 235U(n𝑡ℎ,f) and 252Cf(sf), namely collinear cluster tri-partition (CCT), was reported. It is also observed that spontaneous fission products with the mass number around 120-130 goes into secondary fission channel when they interact with the foil (Al, Cu, Pt).
In this work, we develop a model for calculation of decay half-lives of spontaneous fission isomers, formed in spontaneous ternary fission of 252Cf, in the Coulomb field of foil nucleus. Our model is based on the TNS model, developed for description of ternary decay process of heavy nuclei [4]. The spontaneous fission isomers are treated as a dinuclear system, formed during the ternary decay of 252Cf. The results of calculations show us that the decay half-life of dinuclear system strongly effected by collective excitations caused by Coulomb field of foil nucleus.Literature
- Y.V. Pyatkov, et. al, Phys. At. Nucl. 66 (2003) 1631.
- Y.V. Pyatkov et. al, Eur. Phys. J. A 45 (2010) 29.
- Y.V. Pyatkov, et. al, Phys. Rev. C 96 (2017) 064606.
- Sh. Kalandarov et al., Phys. Lett. B 850 (2024) 138522.
Speaker: Mr Farrukh Otakhonov (BLTP, JINR) -
239
Study the role of entrance channel angular momentum on the fusion-fission and quasifission reactions
In heavy-ion induced reactions, the interaction mechanism is primarily governed by the projectile beam energy and angular momentum ($L$) of the composite system. The collision of two heavy nuclei can generate a significantly large reaction angular momentum. This is because heavy-ion projectile beams ($Z > 4$) can transfer more $L$ to the nucleus in a given reaction compared to light-ion beams. Therefore, a fissioning nucleus can be produced through different projectile-target nuclei combinations, but the reaction channel that has been carried out using the heaviest projectile beam will be produced at comparatively higher angular momentum. In addition to excitation energy, the value of L in a heavy-ion reaction also influences the valley of the potential energy surface (PES) of the fissioning nucleus [1-4]. Therefore, an attempt has been made to produce a fissioning nucleus through different entrance channels at similar excitation energies in order to investigate the role of entrance channel angular momentum on different reaction mechanisms.
The experiments were performed at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions (FLNR), JINR, Russia, using energetic beams of $^{16}$O and $^{48}$Ca delivered from the $U400$ cyclotron. The thin targets of $^{208}$Pb and $^{176}$Yb were bombarded with the $^{16}$O and $^{48}$Ca beams, respectively at different beam energies to produce the same fissioning nucleus, $^{224}$Th around the barrier from E$_{CM}$/V$_{B}$ $\approx 0.96-1.28$. The measurements of the reaction binary products were carried out by utilizing the double-arm time-of-flight (TOF) spectrometer CORSET [5]. Assuming the conservation of mass of the composite system of projectile and target, the double-velocity method was employed to determine the mass and energy of the reaction products.
The Mass-Total Kinetic Energy (M-TKE) distributions of the primary binary fragments from $^{224}$Th has been obtained from the two different reactions. However, the former reaction, $^{208}$Pb($^{16}$O, $f$) is expected to follow a purely CN fusion-fission process based on the charge product ($Z_1$$Z_2$) of the reactions that is about $656$ and $1400$, respectively. Therefore, the Coulombic repulsion barrier is stronger in case of the heavy-ion reaction, $^{176}$Yb($^{48}$Ca, $f$). The latter reaction is subject to significant influence of quasifission reaction mechanism in addition to fusion-fission process. Detailed multimodal analysis has been carried out on the experimental mass and energy distributions of the binary fissionlike fragments.References:
1. R. Vandenbosch, J.R. Huizenga, Nuclear Fission, Academic, New York (1973).
2. M. G. Itkis $\textit{et al.}$, Phys. Part. Nucl. $\bf 29$, 160 (1998).
3. G. N. Knyazheva $\textit{et al.}$, Phys. Rev. C $\bf 75$, 064602 (2007).
4. A. Dey $\textit{et al.}$, Phys. Lett. B $\bf 825$, 136848 (2022).
5. E. M. Kozulin $\textit{et al.}$, Instrum. Exp. Tech. $\bf 51$, 44 (2008).Speaker: Aniruddha Dey (Flerov Laboratory of Nuclear Reaction, Joint Institute for Nuclear Research) -
240
Investigation of reactions with $^{50}$Ti and $^{54}$Cr for the synthesis of new elements
The $^{238}$U($^{54}$Cr,4n)$^{288}$Lv and $^{242}$Pu($^{50}$Ti,3-4n)$^{288,289}$Lv reactions have been studied at the gas-filled separator DGFRS-2 at the SHE Factory at Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research. Three new isotopes were discovered: two α-decaying nuclei $^{288}$Lv with α-particle energy E$_{α}$ = 11.08 MeV and half-life T$_{1/2}$ = 2.0 ms, $^{289}$Lv with E$_{α}$ = 10.90 MeV, T$_{1/2}$ = 2.4 ms, and granddaughter of $^{288}$Lv, spontaneously fissioning $^{280}$Cn with T$_{1/2}$ = 10 μs, which was observed after the first registration of α decay of $^{284}$Fl with E$_{α}$ = 10.57 MeV. Besides, for the first time we reliably registered the pxn channel of the $^{242}$Pu + $^{50}$Ti reaction, which was not evidently observed in the $^{48}$Ca-induced reactions in previous studies. The cross sections of the 3n and 4n channels of the $^{242}$Pu + $^{50}$Ti reaction of 0.32$^{+0.34}_{-0.18}$ pb and 0.22$^{+0.27}_{-0.15}$ pb, respectively, were measured at excitation energy of the $^{292}$Lv compound nucleus E$^{*}$ = 41 MeV. The cross section of the 4n-evaporation channel of the $^{238}$U + $^{54}$Cr reaction, leading to the same compound nucleus, at E$^{*}$ = 42 MeV of 36$^{+46}_{-24}$ fb turned out to be approximately 15 times lower than the total cross section of the $^{242}$Pu + $^{50}$Ti reaction at close excitation energy. Thus, for the first time, it was convincingly proved in an experiment that the reactions of isotopes of actinide elements with $^{50}$Ti are an order of magnitude preferable to reactions with $^{54}$Cr for the synthesis of new elements 119 and 120.
Speaker: Dr Dastan Ibadullayev (Joint Institute for Nuclear Research, L.N. Gumilyov Eurasian National University) -
241
Double-humped fission barrier and statistical mechanism of formation of angular anisotropy of fission fragments
Fission of heavy nuclei induced by neutrons of low and intermediate energies (up to 100 MeV) typically occurs at relatively low angular momentum. As a result, the anisotropy of the angular distribution of fission fragments with respect to the direction of the incident neutron's motion is determined by the distribution of the projection K of the spin of the fissioning nucleus onto the axis of deformation [1,2]. This distribution is formed at the fission barrier. At sufficiently high excitation energies it is determined by a statistical mechanism [3] and depends on the deformation and temperature of the nucleus. However, studies of angular anisotropy have been performed on a limited scale due to experimental and theoretical difficulties. Therefore, in particular, the question of the role of the inner and outer humps of the fission barrier in the formation of the distribution by K remains unresolved.
In the last decade, our research group has performed measurements using a neutron time-of-flight spectrometer integrated with the GNEIS neutron complex on a 1 GeV proton synchrocyclotron at the Kurchatov Institute National Research Centre (Gatchina, PIAF). During these experiments, extensive data sets were obtained on fission cross sections and angular distributions of fission fragments in the energy range from low to intermediate. In addition, we have developed new methods for interpreting the data obtained [4-6]. In this work, we demostrate that within the statistical model framework, the angular distribution of fission fragments can be used to determine whether the internal or external hump of the fission barrier is responsible for the formation of the K quantum number distribution.
- A. Bohr. Int. Conf. on the Peaceful Uses of Atomic Energy, 1955. V. 2. United Nations, New York, 1956. P. 151.
- A.L. Barabanov, W.I. Furman. Z. Phys. A 357, 411 (1997).
- R. Vandenbosch, J.R. Huizenga. Nuclear Fission. New York, Academic Press, Inc., 1973.
- A.S. Vorobyev et al. JETP Lett. 112, 323 (2020).
- A.S. Vorobyev et al. Phys. Rev. C 108, 014621 (2023).
- A.S. Vorobyev et al. Eur. Phys. J. A 60, 117 (2024).
Speaker: A.L. Barabanov (National Research Centre “Kurchatov Institute”)
-
236
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Arseniy Shabanov-
242
Каналирование протонов с энергией 200-1000 МэВ в изогнутых кристаллах кремния
Каналирование в изогнутых монокристаллах исследуется и применяется для получения пучков заряженных частиц высоких и сверхвысоких энергий в таких крупнейших ускорительных центрах, как ИФВЭ, KEK, LNF, FNAL, LHC [1, 2]. Особенностями кристаллооптики заряженных частиц являются компактность, высокая эффективность, снижение радиационных потерь.
На синхроциклотроне ПИЯФ проводятся работы по исследованию возможностей кристаллооптики заряженных частиц в области промежуточных и медицинских энергий. Для опытов на пучке протонов с энергией 1 ГэВ были спроектированы, изготовлены, тестированы оптическими и рентгеновскими методами одномиллиметровые изогнутые кристаллы, с которыми наблюдено отклонение протонов на угол 3 мрад с эффективностью около 30% [3].
Для анализа экспериментальных данных и планирования новых измерений была разработана программа, моделирующая методом Монте-Карло прохождение заряженных частиц через ориентированный кристалл с помощью численного решения уравнения движения частицы в непрерывном потенциале плоскостного канала [4]. Программа была проверена на экспериментальных данных, полученных при исследовании кристаллов ПИЯФ на пучках высоких энергий в CERN, и применена для моделирования экспериментов с кристаллами на синхроциклотроне. Результаты расчетов находятся в хорошем согласии с результатами измерений.
Получены оценки для применений разработанных изогнутых кристаллов в области ниже 1 ГэВ вплоть до «медицинских энергий» 70-230 МэВ.- V.M. Biryukov, Y.A. Chesnokov, V.I. Kotov, Crystal channeling and its application at high-energy accelerators, Berlin: Springer Science & Business Media (2013)
- W. Scandale et al., Eur. Phys. J. Plus 139, 1041 (2024)
- Д. А. Амерканов и др., Письма в ЖЭТФ 118, 551-556 (2023)
- П.Ю. Иванова, Моделирование эксперимента по высокоэффективному отклонению протонов с энергией 1 ГэВ изогнутым кристаллом, СПбГУ: магистр. дисс. (2024)
Speaker: Полина Иванова (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) -
243
Development of the method of reconstruction of neutron energy spectrum with HGND in the BM@N experiment
The fixed-target BM@N experiment at Nuclotron (JINR, Dubna) is aimed at the study of heavy ion collisions at beam energies up to 4 A GeV. The High Granular Neutron Detector (HGND)[1] is being developed in addition to existing BM@N detectors. It provides a possibility to carry out unique measurements of direct and azimuthal flow of neutrons and measure their energy spectrum.
The HGND has two arms, each consisting of 8 layers of plastic scintillator with copper absorber plates in between. The first layer is used for rejection of the charged particles. Each scintillation layer is assembled from an 11x11 matrix of individual cells (1936 cells in total).
Neutrons must be recognized in the presence of a background of charged particles and photons. The cluster identification algorithm has been developed to differentiate neutrons from other particles. The time-of-flight technique is used to reconstruct the kinetic energy of neutrons. The efficiency corrections and background subtraction must be applied in order to reconstruct the kinetic energy spectrum of neutrons. This report is devoted to the development of a procedure for reconstruction of neutron energy spectrum in the presence of the background.
References:
1. S. Morozov et al., Nucl.Instrum.Meth.A 1072, 170152 (2025)Speaker: Arseniy Shabanov (INR RAS; MIPT) -
244
ENGREN setup with liquid scintillator array for neutron multiplicity measurements in nuclear fission
Investigation of prompt fission neutrons (PFN) properties is important due to PFNs carry information on excitation energy of fissile nucleus [1,2]. This information is important for nuclear energy installation development and research in nuclear physics and astrophysics. The ENGREN experimental setup has been developed at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR, Dubna, Russia) to study the correlated properties of fission fragments (FF) and PFN. The setup consists of a double-gridded Frisch ionization chamber (IC) with a target mounted on the common cathode of the chamber, combined with 32 PFN detectors arranged in a spherical configuration around the target at a distance of 50 cm. The cathode signal of the chamber provides the time reference for the fission event. The anode signals allow for the measurement of the fission fragment energies. The PFN detectors are based on the EJ-309 liquid scintillator by SCIONIX and enable neutron-gamma discrimination through pulse shape discrimination (PSD) and pulse height (PH) analysis, as well as neutron time-of-flight (ToF) measurements. The detection of multiple prompt fission neutrons (PFN) was estimated using the Monte Carlo method and introduced in [3]. In this work the 32 EJ-309 liquid scintillation detectors used in the ENGREN setup were characterized in terms of their response and gamma-ray detection efficiency. The energy calibration of the liquid scintillators (LS), which is typically challenging due to Compton scattering effects, was performed by comparing the experimental detector response with Monte Carlo-simulated spectra. The response functions and light output resolution were obtained by least-squares minimization of the simulated response functions fitted to experimental data from calibration gamma sources (Cs-137, Na-22, Co-60). Additionally, the neutron/gamma pulse shape discrimination (PSD) capability was evaluated using a PuBe neutron source, and the PSD performance was analyzed as a function of the applied voltage. Preliminary test measurements with a ²³⁵U target were conducted at the Intense Resonance Neutron Source (IREN).
- A. Al-Adili, D. Tarrío, K. Jansson, V. Rakopoulos, A. Solders, and S. Pomp, Prompt fission neutron yields in thermal fission of 235U and spontaneous fission of 252Cf, PHYSICAL REVIEW C 102, 064610 (2020)
- Sh. Zeynalov, P. Sedyshev, V. Shvetsov, and O. Sidorova, Prompt fission neutron investigation in 235U(nth,f) reaction, EPJ Web of Conferences 146, 04022 (2017)
- O. V. Sidorova, Sh. S. Zeynalov, Estimation of the Number of Multiple Detections of Prompt Fission Neutrons with a Multi-Module Neutron Detector Based on the Liquid Scintillator BC-501, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 88, 8 (2024).
Speaker: Dr Olga Sidorova (Joint Institute for Nuclear Research) -
245
Текущее состояние источника ультрахолодных нейтронов для РК ПИК
Работа посвящена созданию нового источника ультрахолодных нейтронов на основе сверхтекучего гелия для исследований в области физики фундаментальных взаимодействий на реакторе ПИК. Использование сверхтекучего гелия позволит достичь плотности УХН в камере источника 2200 см-3, что на порядок превышает текущий уровень плотности УХН в источниках в мире.
Для источника разработан и внедрён весь комплекс технологий, позволяющих создавать источники УХН на основе сверхтекучего гелия: получение и поддержание сверхтекучего гелия при низкой температуре в условиях теплопритоков от реактора, разработка технологического комплекса для поддержания его рабочих параметров, изготовление нейтронопроводов УХН с высоким коэффициентом отражения нейтронов, разработка теплообменников для сверхнизких температур и получение изотопно-чистого гелия-4.
Нейтроноводная система источник УХН рассчитана на установку до четырёх научных станций. На первом этапе эксплуатации источника планируется установка ЭДМ спектрометра с чувствительностью измерений 1E-27 e∙см/год и два эксперимента по измерению времени жизни нейтрона с точностью 0,1 сек - с гравитационной и магнитной ловушками.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант
№ 23-72-10007.Speaker: Виталий Лямкин (NRC "Kurchatov Institute" - PNPI) -
246
Evolution of the spectra during propagation of neutron fluxes in Rhenium, Molybdenum and Aluminum
The results of numerical modeling of leakage spectra, diffusion time and absorption spectra during propagation of neutron fluxes in 75Re, 42Mo and 13Al27 are presented. The spherically symmetric task of neutron flux diffusion from a central source to the outer surface of the spheres is reviewed. The simulation was carried out using the Monte Carlo method with ABBN-78 neutron group constants.
The task was carried out within the framework of modeling the spectrum and optimization of the target station of the spallation pulsed neutron source RADEX, which is used as a proton beam target of the INR RAS proton linear accelerator. Modeling was carried out in order to determine the effect of the target material choice on the neutron spectrum, value of neutron flux and it's diffusion time. Possibility to reconstruct capture spectrum, using experimentally measured leakage spectrum, is discussed.Speaker: Denis Khliustin (Institute for Nuclear Research Russian Academy of Sciences) -
247
О выводе протонного пучка из камеры синхроциклотрона ПИЯФ с помощью изогнутого кристалла
В системе вывода ускоренного протонного пучка из синхроциклотрона ПИЯФ с энергией 1 ГэВ применяется регенеративный метод вывода. Эффективность выводной системы около 30% [1]. Не выведенный из камеры ускоренный пучок рассеивается на стенках камеры синхроциклотрона. Частота вывода ускоренного протонного пучка порядка 50 Гц. Максимальная выведенная интенсивность ускоренного пучка 1 мкА (6*10^12 протонов в секунду).
Одной из важных задач является разработка и исследование детекторов и электроники для ядерно-физических экспериментов, которая решается с использованием тестовых пучков интенсивностью на 6-9 порядков меньше, позволяющих работать в счетном режиме. Сейчас получение таких тестовых пучков на синхроциклотроне осуществляется как путем изменения режимов ускорения синхроциклотрона, так и многоступенчатым коллимированием интенсивного выведенного пучка. В результате практически весь ускоренный и выведенный пучок гасится в веществе камеры и коллиматоров, производя радиационный фон. Режимы работы ускорителя с малыми интенсивностями (10^3÷10^6 протонов в секунду) являются «экзотическими», требуют сложной настройки и повышенного внимания. Вывод пучка из синхроциклотрона с помощью изогнутого кристалла позволит уменьшить интенсивность выведенного пучка до требуемой, существенно снизить радиационные потери в камере, коллиматорах и трактах транспортировки.
Для осуществления вывода протонного пучка с помощью изогнутого кристалла необходимо остановить ускоренный протонный пучок на радиусе до области действия регенератора, после чего с помощью изогнутого кристалла, помещенного в протонный пучок, отклонить пучок на такой угол, чтобы он за несколько оборотов (регенеративный вывод) или за один оборот попал в выводной магнитный канал.
Экспериментальные исследования поведения протонного пучка в камере ускорителя показали, что при прерывании ускорения на R=309 см пучок из камеры не выводится и существует в камере не менее 4,5 секунд.
Предварительные расчеты показали, что с этого радиуса возможен вывод каналированного кристаллом протонного пучка как с использованием регенеративной системы вывода, так и без нее. В первом случае нужен изгиб кристалла порядка 10 миллирадиан, во втором случае - более 20 миллирадиан. Прототипы изогнутых кристаллов на угол до 4 миллирадиан разработаны и исследованы в [2]. Кристаллы с большими углами изгиба находятся в стадии изучения.
Изменяя радиальное и угловое положение кристалла можно плавно менять интенсивность выведенного протонного пучка в необходимых пределах.
Кристаллический вывод способен улучшить инфраструктуру пучков на синхроциклотроне ПИЯФ.- Н.К. Абросимов, Создание и дальнейшее усовершенствование синхроциклотрона на энергию 1 ГэВ ПИЯФ РАН, ПИЯФ РАН: д.т.н. диссертация (2004).
- Д.А. Амерканов и др., Письма в ЖЭТФ том 118, вып. 8, с. 551 – 556.
Speaker: Dr Юрий М. Иванов (Петербургский институт ядерной физики НИЦ КИ)
-
242
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Experiment 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Валерий Кондратьев (Санкт-Петербургский государственный университет)-
248
Возможность изучения свойств заряженных адронов в Xe+W столкновениях при энергии 2.5А ГэВ на установке MPD в ускорителе NICA
Спектроскопия идентифицированных адронов играет особую роль в изучении столкновений релятивистских ядер. Измерение выходов и спектров рождения заряженных пионов, каонов и (анти)протонов позволяет изучать свойства горячей и плотной материи в момент её распада на конечные адроны. Выходы и спектры рождения адронов отражают механизмы их рождения и чувствительны к динамике эволюции файербола.
В работе представлены результаты исследования возможности измерять спектры рождения пионов, каонов и протонов в эксперименте MPD на ускорителе NICA в столкновениях ядер ксенона и вольфрама в конфигурации с фиксированной мишенью при энергии пучка ксенона Eкин = 2.5А ГэВ в широкой области поперечных импульсов в зависимости от центральности ядро-ядерных столкновений. Результаты получены на основе Монте-Карло моделирования столкновений ядер ксенона с ядрами вольфрама, взаимодействия продуктов реакции с веществом экспериментальной установки MPD и откликов детекторных систем. Использовался подход на основе σ-параметризации информации об идентификации частиц в детекторах TPC и TOF.
Работа выполнена в рамках Государственного задания на проведение фундаментальных исследований (код темы FSEG-2025-0009).Speaker: Дмитрий Иванищев (СПбПУ, НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ) -
249
Моделирование загрузок детектора Straw Tracker эксперимента SPD на установке NICA в условиях ион-ионных и p-p столкновений
Изучение характеристик и ограничений трекового детектора в столкновениях протонов и ядер представляет собой важную задачу в рамках эксперимента Spin Physics Detector (SPD), реализуемого на коллайдере NICA. Трековый газовый детектор Straw Tracker — одна из ключевых подсистем SPD, предназначенная для восстановления треков заряженных частиц в широком кинематическом диапазоне при энергии столкновений до 27 ГэВ и светимости до $10^{32} см^{-2} с^{-1}$.
В данной работе исследуются ожидаемые загрузки детектора Straw tracker в условиях различных сценариев столкновений: от протонов до тяжёлых ионов. Моделирование было выполнено с использованием генераторов событий Pythia8 и UrQMD, что позволило воспроизвести предполагаемые условия работы детектора. На основе полученных данных построены тепловые карты плотности треков, оценены пространственные распределения загрузки по модулям и слоям детектора Straw Tracker. Исследована деградация импульсного разрешения с ростом массового числа сталкивающихся ядер. Полученные результаты позволяют оценить возможности эксперимента SPD по восстановлению событий от ион-ионных столкновений, что необходимо для развития ионной физической программы данного эксперимента.Speaker: Андрей Дуров (НИЯУ МИФИ) -
250
Гидродинамический расчет спектров и корреляций прямых фотонов в Bi-Bi столкновениях при энергиях NICA
Фазовый переход квантовой хромодинамики (КХД) из адронного газа в состояние свободных кварков и глюонов, известное как кварк-глюонная плазма (КГП), тщательно изучается на протяжении многих десятилетий. При ненулевых значениях химического потенциала, решеточные вычисления КХД предсказывают фазовый переход первого рода, который заканчивается критической точкой КХД. Одной из ключевых задач комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) на базе Объединенного института ядерных исследований является исследование данной области фазовой диаграммы. Прямые фотоны, рождающиеся в процессе термодинамической эволюции горячей области тяжелоионного столкновения, являются важным инструментом для изучения свойств ГКП и других предсказаний КХД. Так, спектры прямых фотонов могут быть использованы для оценки температуры горячей области. В свою очередь, корреляции Бозе-Энштейна являются широко распространенным инструментом для измерения пространственных характеристик горячей области. Корреляции прямых фотонов, в отличие от корреляций адронов, позволяют изучать пространственно-временную эволюцию горячей области начиная с самых ранних стадий.
В данной работе представлены спектры и Бозе-Эйнштейн корреляции прямых фотонов в Bi-Bi столкновений при $\sqrt{s_{NN}}$ = 9.2 ГэВ, полученные в рамках гидродинамического расчета c использованием модели UrQMD. Рассмотрена зависимость наблюдаемых от уравнения состояния горячей материи, а также от центральности тяжелоионного столкновения.
Speaker: Владислав Кусков (НИЦ «Курчатовский институт», НИЯУ МИФИ) -
251
Fluctuations and event-by-event determination of temperature and baryochemical potential at NICA energy
One of the primary research objectives of the MPD experiment [1, 2] at the NICA collider is to scan the phase diagram of strongly interacting matter, study the phase transition between hadronic gas and quark-gluon plasma (QGP), and search for the critical point. To achieve this, various fluctuation and correlation observables are employed.
The process of nuclear collisions and the evolution of the produced QGP medium within the NICA collider energy range is highly complex, with the achieved thermodynamic equilibrium being only local. All thermodynamic characteristics of the medium exhibit inevitable event-by-event fluctuations. These fluctuations can arise both from variations in the medium volume (related to centrality selection and the choice of robust observables) and from fluctuations in other thermodynamic characteristics. Consequently, selecting events based on temperature ($T$) and baryon chemical potential ($\mu_B$), and establishing the precision with which these characteristics (at the freeze-out stage) can be determined on an event-by-event basis, is of significant interest.
The Thermal-FIST package [3] was applied for the event-by-event extraction of thermodynamic characteristics and their uncertainties in heavy-ion collisions for different centrality classes. The resolution of this method for temperature and baryochemical potential was calculated across a broad range of $T$ and $\mu_B$. On average, the resolution was found to be at the level of 15%. The consistency of the method was also verified in terms of the adequacy of the predicted uncertainties.
The method was applied to the SMASH [4] and EPOS4 [5] Monte Carlo generators. It was demonstrated that the EPOS4 model corresponds to a statistical freeze-out scenario with fixed ($T$ and $\mu_B$), whereas SMASH exhibits additional temperature fluctuations. A scheme for determining fluctuations in $T$ and $\mu_B$ in real experimental data has been developed.
The reported study was supported by the Russian Science Foundation, project no. 23-12-00042, https://rscf.ru/en/project/23-12-00042/.
References:
1. V. Abgaryan, et al (MPD Collaboration), Status and initial physics performance studies of the MPD experiment at NICA, Eur. Phys. J. A 58, 140 (2022).
2. R. Abdulin, et al (MPD Collaboration), MPD physics performance studies in Bi+Bi collisions at $\sqrt{s_{\mathrm{NN}}}$=9.2 GeV, Revista Mexicana de Física (accepted), arXiv:2503.21117 [nucl-ex] (2025).
3. V. Vovchenko. H. Stoecker, Thermal-FIST: A package for heavy-ion collisions and hadronic equation of state, Comput. Phys. Commun. 244, 295-310 (2019), arXiv 1901.05249 [nucl-th].
4. J. Weil et al (SMASH Collaboration), Phys. Rev. C 94, 054905 (2016), arXiv: 1606.06642 [nucl-th].
5. K. Werner, Phys. Rev. C 108, 064903 (2023), arXiv:2301.12517.Speaker: Vladimir Kovalenko (Saint Petersburg State University) -
252
Prospects for Dilepton Measurements in the MPD Experiment at NICA
The Multi-Purpose Detector (MPD) experiment is a flagship heavy-ion experiment of the NICA facility at JINR, in Dubna expected to start operation in 2026. The experiment will operate in the energy range $\sqrt{s_{\rm NN}}$ = 4-11 GeV in collider mode and $\sqrt{s_{\rm NN}}$ = 2.4-3.5 GeV in fixed-target mode which covers the high net-baryon density region of the QCD phase diagram. Dilepton measurements in heavy-ion collisions, provide insights into the initial temperature of the medium through intermediate mass spectra as well as properties such as chiral symmetry restoration and lifetime of the fireball via low-mass pairs and vector meson spectra.
MPD experiment is well equipped for the measurements of dileptons. It offers excellent track reconstruction and electron identification capabilities together with electron-hadron separation required for these measurements. In this presentation, we will report the current status of the NICA facility and the MPD experiment. Moreover, the prospects and the detector performance for the dilepton measurements together with selected physics feasibility studies will be presented.
Speaker: Dr Sudhir Pandurang Rode (Joint Institute For Nuclear Research, Dubna, Russia) -
253
Nuclear modification factor of inclusive charged particles in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = $ 7.7-27 GeV with the STAR experiment
The Quantum Chromodynamics (QCD) phase diagram, characterized by temperature (T) and baryon chemical potential ($\mu_B$), features a transition from hadronic matter to a deconfined quark-gluon plasma (QGP). The Beam Energy Scan (BES) program at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) explores this phase structure by systematically varying the collision energy of Au+Au collisions, with a key focus on locating the QCD critical point.
During the first phase (BES-I, 2010–2014), the STAR experiment measured the nuclear modification factor ($R_{CP}$) of inclusive charged particles in Au+Au collisions in energy range $\sqrt{s_{NN}}$ = 7.7–27 GeV. In 2018, the STAR experiment initiated the second phase of the BES program (BES-II), which has a tenfold increase in statistics compared to the first phase. This will enable better precision $R_{CP}$ measurements. By 2021, STAR collected 100 million Au+Au events at $\sqrt{s_{NN}}$ = 7.7 GeV, two orders of magnitude larger than the BES-I dataset at this energy.
In this talk, we present new measurements of charged-particle production and $R_{CP}$ from the high-statistics BES-II data at $\sqrt{s_{NN}}$ = 7.7 GeV, comparing them with BES-I results. We further evaluate theoretical descriptions using UrQMD and hydrodynamic (SMASH+vHLLE) model predictions, testing their description of the experimental observations. By extending the analysis to higher transverse momenta ($p_{T}$), we probe potential jet quenching effects and assess implications for QGP formation and properties at lower collision energies.
Speaker: Alisher Aitbayev (Joint Institute for Nuclear Research (JINR))
-
248
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics: Theory 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Alexey Aparin (JINR)-
254
Diquark role in large pT baryon and multiquark exotic state production with in pp- and dd-collisions
Scalar diquark model of proton improved by parton intrinsic transverse momentum in hadrons is able to describe the strong scaling violation in proton production large transverse momentum p⊥ within perturbative QCD with higher twists in a wide energy range: √s = 11.5 GeV at U70 (NRC KI—IHEP, Protvino), √s = 23.4 GeV at Tevatron (FNAL, Chicago), and √s = 62 GeV at ISR (CERN, Geneva) is presented. Estimates for the production of tetraquark exotic states formed by scalar diquarks for the SPD experiment at the forthcoming NICA collider (JINR, Dubna) have been obtained.
- L. V. Laperashvili, “Dynamical role of diquark in proton inclusive production”, Yad. Fiz. 35, 742–747 (1982).
- S. Ekelin and S. Fredriksson, “Large pT protons from constituent diquark scattering”, Phys. Lett. B 149, 509–513 (1984).
- V. T. Kim, “Diquarks and dynamics of large p(t) baryon production”, Mod. Phys. Lett. A 3, 909–916 (1988).
- V. T. Kim, A.V. Zelenov, “Diquarks for large p(t) baryon production at high energy pp-collsions”, Phys. Part. Nucl. Lett. 22, 213–218 (2025).
Speaker: Andrei Zelenov (Petersburg Nuclear Physics Institute of NRC "Kurchatov Institute") -
255
Modelling 20Ne-20Ne collisions at the LHC
The studies of 20Ne–20Ne collisions are included in the system-size scan program at the LHC [1] to explore the origin of the collectivity in the overlap region of light colliding nuclei. Nuclear matter outside the overlap remains relatively cold and forms spectator matter. Spectator nucleons and fragments propagate at small angles to the beam direction and thus can be registered by Zero Degree Calorimeters (ZDC) [2]. It is expected that the yields of spectator fragments depend on the structure of the ground state of colliding nuclei. In particular, the fragmentation of 16O has been found sensitive to the presence of the alpha-clustered states in 16O [3]. The exact density profile of 20Ne is still under discussion, but significant contributions of clustered states are reported by several authors [4,5]. Therefore, a proper modelling of ZDC signals from 20Ne–20Ne collisions at the LHC requires a reliable model to calculate the yields of spectator fragments and their momenta taking into account the clusterization in 20Ne.
In this work, 20Ne–20Ne collisions at the LHC were simulated by means of Abrasion-Ablation Monte Carlo for Colliders (AAMCC) model [6] with MST-clustering [7,8]. The nuclear density of 20Ne was parameterized either as a deformed Wood-Saxon profile or as an alpha-clustered bi-pyramid [4]. The results of AAMCC were compared first with available experimental data on Ne fragmentation at lower energies [9,10]. The contribution of clustered configurations in neon nuclei was estimated. Then, 20Ne–20Ne collisions at √sNN = 7 TeV were simulated to calculate the yields of spectator nucleons and various nuclei as spectator fragments and their transverse momentum and pseudorapidity distributions. The relation between the yields of spectator neutrons, protons and 4He was considered as a possible probe of intranuclear clustering. The obtained results can help in evaluating the performance of ZDC in future 20Ne–20Ne runs at the LHC.
[1] R. Alemany Fernandez, PoS, 478, http//doi.org/10.22323/1.478.0335
[2] G. Puddu et al., NIM A, 581 (2007) 397
[3] A.Svetlichnyi et al., Physics, 5 (2023) 381
[4] R. Bijker, F. Iachello, NPA 1006 (2021) 122077
[5] Y. Yamaguchi et al., PRC 108 (2023) 014322
[6] A. Svetlichnyi et al., Bull. RAS:Phys, 84 (2020) 911
[7] R. Nepeivoda et al., Particles 5 (2022) 40
[8] E. Vasyagina et al., PEPAN Lett., 2024, in print
[9] C. Zeitlin et al., PRC, 83 (2011) 034909
[10] N. Abd-Allah, M. Mohery, Czech. J. Phys., 51 (2001) 1189Speaker: Ekaterina Vasyagina (Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia) -
256
Изоскалярные дибарионые состояния на пороге NN*
В докладе обсуждается один из способов определения изоскалярного сечения рождения пионов в NN рассеянии. Эта часть полного сечения не может быть получена в прямых измерениях, но есть соотношение, связывающее изоскалярную часть с другими компонентами полного сечения на основе сохранения изоспина. Из экспериментальных данных получена разность между сечением однопионного рождения со смешанной симметрией и изовекторным сечением. В энергетической зависимости изоскалярного сечения наблюдается резонансоподобная структура с максимумом в точке $\sqrt{s}$ = 2315 МэВ и шириной порядка 150 МэВ [1]. Еще одно подтверждение этого результата было получено в исследованиях парциальных сечений.
Список литературы
[1] H.Clement, E.Doroshkevich, and T.Skorodko Phys.Rev.C 106 (2022) 6, 065204Speaker: Евгений Дорошкевич (ИЯИ РАН) -
257
Direct extraction of vector-meson-production amplitudes from experimental data
The Ji sum rules [1] permit to calculate contributions of quarks and gluons to the nucleon spin using the generalized parton distributions (GPDs).
This solves the spin-crisis problem. In order to obtain GPDs from experimental data on vector-meson production (VMP), helicity amplitudes of the process are needed. In the present work, the amplitude method (AM) is discussed [2], which is direct extraction of the helicity-amplitude ratios from angular distributions of final particles normalized to unity. The AM is compared with the standard method of spin-density matrix-element (SDME) extraction (SDME method). It is shown that the angular distribution of the final particles from the vector-meson decay is non-negative for any non-zero amplitudes [3].
The non-negativity is absent for the SDME method but this property is important for application of the maximum likelihood method of data treating. The exact formulas for the helicity-amplitude ratios in terms of the SDMEs for spinless targets are presented [4]. It is argued that these formulas are applicable to VMP on the unpolarized nucleons if unnatural-parity-exchange amplitudes and nucleon-spin-flip amplitudes are much smaller than natural-parity-exchange amplitudes without the nucleon spin flip [3]. It is argued and illustrated with examples that the SDMEs (especially ``polarized'' ones) calculated with the amplitude ratios obtained in the AM have experimental errors smaller than those extracted by the SDME method [2, 5]. The new approximate formula for the longitudinal-to-transverse cross-section ratio for the VMP is discussed [3, 4].References
1. X. D. Ji, Phys. Rev. Lett. ${\bf 78}$ 610 (1997).
2. A. Airapetian et al. (HERMES Collaboration), Eur. Phys. J. C ${\bf 71}$ 1609 (2011).
3. S.I. Manaenkov, Phys. of Atomic Nuclei ${\bf 87}$ 505 (2024).
4. S.I. Manaenkov, Phys. of Part. and Nucl. Lett. ${\bf 21}$ 34 (2024).
5. A. Airapetian et al. (HERMES Collaboration), Eur. Phys. J. C ${\bf 77}$ 378 (2017).Speaker: Dr Serguei Manaenkov (B.P. Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute of National Center "Kurchatov Institute") -
258
Dijets with large rapidity separations at the next-to-leading BFKL for search of new physics at colliders
Search for the large extra dimension gravity at collider energies is considered in transplanckian regime [1-3], i. e. when $\sqrt{\hat{s}}\gg\sqrt{-\hat{t}},M_D$. Here $\hat{s}$ and $\hat{t}$ are the Mandelstam variables of colliding parton-parton system and $M_D$ is the Planck mass scale in the space-time with compactified D extra large dimensions. The main observable of the large extra dimension gravity in transplanckian regime is the high mass ($M_{jj}\sim\sqrt{\hat{s}}\gg M_D$) dijet production with large rapidity separation. In the transplanckian regime the Gribov-Regge limit of QCD ($\sqrt{\hat{s}}\gg\sqrt{-\hat{t}}$) is the main source of the standard model background. The calculation of the QCD background should be done within the next-to-leading logarithmic (NLL) approximation formalism by Lipatov, Fadin, Kuraev and Balitsky (BFKL) [4-7]. In this work the signal of the large extra dimension gravity as well as the NLL BFKL QCD background are estimated for the high luminosity (HL) LHC and future colliders such as FCCpp and CEPCpp.
- Arkani-Hamed N., Dimopoulos S. and Dvali. G., Phys. Lett. B 429, 263-272 (1998)
- Giudice G.F., Rattazzi R. and Wells J.D., Nuclear Physics B 630, 293–325 (2002)
- Kim V.T., Oreshkin V.A., Nucl.Phys.B Proc.Suppl. 219-220, 235-238 (2011)
- Brodsky S.J., Fadin S.V., Kim V.T., Lipatov L.N. and Pivovarov G.B., JETP Lett. 70, 155-160 (1999)
- Caporale F., Ivanov D.Yu., Murdaca B. and Papa A., Phys. Rev. D 91, 114009 (2015)
- Ducloué B., Szymanowski L. and Wallon S., Phys. Rev. Lett. 112, 082003 (2014)
- Egorov A.Iu., Kim V.T., Phys. Rev. D 108, 014010 (2023)
Speaker: Anatolii Egorov (Petersburg Nuclear Physics Institute of NRC «Kurchatov Institute») -
259
Редкие процессы в фотон-фотонных соударениях с использованием пучков проекта комптоновского источника Национального центра физики и математики
В настоящее время процессы фотон-фотонных соударений представляют большой интерес в физике элементарных частиц, в частности, в связи с редкими нелинейными эффектами квантовой электродинамики (КЭД) [1, 2]. Помимо этого, перспективным направлением исследования является поиск различных экзотических объектов, таких как псевдоскалярные аксионоподобные частицы (ALP) или скалярные частицы [3], которые могут возникать как «голдстоуновские бозоны» в результате спонтанного нарушения симметрии.
В данной работе исследуются редкие процессы в фотон-фотонных соударениях (рассеяние «света на свете» и рождение гипотетической скалярной и псевдоскалярной (ALP) частицы) с использованием фотонных пучков будущего проекта комптоновского источника ИКИ НЦФМ, основанного на обратном эффекте Комптона: фотонный пучок, генерируемый ИКИ, сталкивается с фотонным пучком от лазера [4].
• Получены сечение рассеяния, угловое распределение и число событий (выход гаммаквантов) в процессе рассеяния «света на свете» с использованием фотонных пучков будущего проекта ИКИ НЦФМ;
• Определены область параметров (массы и константы связи), при которых сечение
рождения скалярной и псевдоскалярной (ALP) частицы сравнивается с сечением
рассеяния «света на свете» и ширина распада гипотетической скалярной и псевдоскалярной (ALP) частицы в два фотона.Список литературы
[1] De Tollis B., Nuovo Cimento, 35 (1965) 1182; De Tollis B., Nuovo Cimento, 32 (1964) 757.
[2] Liang Y., Czarnecki A., Photon-photon scattering: a tutorial, Canadian Journal of Physics, 90 (1) (2012) 11–16.
[3] Inan S.C., Kisselev A.V., A search for axion-like particles in light-by-light scattering at the CLIC, Journal of High Energy Physics, 2020 (6) (2020) 1–25.
[4] Григоренко Л.В., Антоненко Н.В., Артюков И.А., Ачасов М.Н., Барабанов А.Л., Белостоцкий С.Л., Боос Э.Э., Борзов И.Н., Варламов В.В., Васильев А.А., Виноградов, А.В., Винокуров Н.А., Владимиров М.В., Воробьев А.А., Джилавян Л.З., Джолос Р.В., Дзюба А.А., Дюбков В.С., Завьялов Н.В., Зверев Д.А. и др., ПРОЕКТ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ ИНОК — КОМПТОНОВСКОГО ИСТОЧНИКА МОНОХРОМАТИЧЕСКИХ ГАММА-КВАНТОВ НЦФМ, Физмат, 1 (3–4) (2023) 123–264.Speaker: Анна Андреева (Филиал московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Сарове, Саров, Россия)
-
254
-
5. Physics of neutrino and nuclear astrophysics РХО ПИБ (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
РХО ПИБ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Ирина Архангельская (НИЯУ МИФИ)-
260
Зависящие от плотности гиперонные взаимодействия в нейтронных звёздах
Многочастичные эффекты в формализме сил Скирма могут быть введены в виде зависимости от плотности или тройных сил. Они являются
неотъемлемой частью описания гиперонных взаимодействий и играют особенную роль в нейтронных звездах из-за чрезвычайно высоких плотностей, недостижимых в земных условиях.Мы изучаем влияние различных аспектов многочастичных эффектов на характеристики нейтронных звёзд, такие как их масса, радиус и приливная деформируемость. В частности, подробно исследуется зависимость характеристик нейтронных звёзд от параметра $\gamma$ в зависимости $\Lambda N$-взаимодействия от нуклонной плотности $\rho_N^\gamma$. Ранее мы демонстрировали, что добавление зависимости от нуклонной плотности в $\Lambda \Lambda$-взаимодействие не приводит к столь же сильным эффектам, как в $\Lambda N$-взаимодействии [1]. Известные параметризации Скирма для $\Lambda N$-взаимодействия с $\gamma<1$ обеспечивают более мягкие уравнения состояния и меньшие массы нейтронных звезд, чем те, у которых $\gamma =1$ [2]. Однако мы показываем, что это не обязательно так, и параметризации с меньшим значением $\gamma$ могут приводить к более жестким уравнениям состояния. Мы также сравниваем $\Lambda N$-силы, зависящие от плотности, с тройными $\Lambda NN$-силами, которые в нейтронных звёздах приводят к более мягкому уравнению состояния ввиду возрастающей с повышением плотности ролью принципа Паули. Также тройные силы в некоторых случаях могут оказывать значительное влияние на химический состав звезды.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 24-22-00077.- С.А. Михеев, Д.Е. Ланской, А.И. Насакин, Т.Ю. Третьякова, Известия РАН (2025), принята к публикации
- S. Mikheev, D. Lanskoy, A. Nasakin, T. Tretyakova, Particles 6, 847–863 (2023).
Speaker: Семен Михеев (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, МГУ имени М.В. Ломоносова) -
261
Внутренняя кора нейтронной звезды: высокоточная капельная модель
Внутренняя кора эта область нейтронной звезды, состоящая из нуклонных кластеров (ядер) окруженных свободными нейтронами. Теория внутренней коры стала развиваться с конца 1960-х годов на основе капельных моделей, а в настоящее время её развитие строится с использованием детальных численных расчетов, например, расширенным методом Томаса-Ферми (ETF) с учетом оболочечных поправок по методу Струтинского. Тем не менее, такие расчеты достаточно трудоёмки и не могут быть непосредственно инкорпорированы в коды для моделирования нейтронных звёзд. Вместо этого используется интерполяция таблиц с результатами численных расчетов. Если для звезд с равновесным составом это представляется достаточным, то для исследования внутренней коры в неравновесном (по составу) состоянии, например, в аккрецирующих нейтронных звёздах, такая интерполяция может быть не столь простой. Кроме того, для ограничения ядернофизических параметров по астрофизическим данным необходимо проводить моделирование нейтронных звёзд при разных значениях этих параметров, что, при использовании детальных численных расчетов для построения внутренней коры, до сих пор представляет собой чрезмерно сложную задачу. В таких условиях исследователи часто прибегают к капельной модели, сочетающей физическую наглядность, простоту и высокую численную эффективность. При этом, под термином «капельная модель» подразумевается целый класс моделей, основанных на использовании разных параметризаций и подходов для описания поверхностной энергии, большинство из которых являются, в значительной части, феноменологическими. В докладе построена и применена усовершенствованная капельная модель, основанная на термодинамически согласованном описании поверхностных свойств (с согласованным учетом адсорбции нейтронов и поверхностного натяжения) с учетом поправок на кривизну поверхности. Показано, что построеная модель воспроизводит результаты детальных ETF расчетов равновесной и неравновесной внутренней коры с точностью несколько до нескольких кэВ/нуклон. При этом, параметры модели находятся ETF расчетом для плоской границы, обеспечивая строгое согласование с выбранными ядернофизическими параметрами. Важно отметить, что модель позволяет выписать явные выражения не только для плотности энергии, но и для других термодинамических величин (давление, химические потенциалы, …), что облегчает её использование, например, при построении моделей аккреционной коры, где наиболее удобными параметрами является давление и химический потенциал нейтронов.
Работа поддержана грантом РНФ № 22-12-00048-П.Speaker: А.И. Чугунов (ФТИ им. А.Ф. Иоффе) -
262
Поиск резонансного поглощения солнечных аксионов испускаемых в M1-переходе ядра 169Tm
Гипотеза о существовании аксиона изначально возникла как попытка разрешить вопрос о CP-несохранении в сильных взаимодействиях с помощью добавления к Стандартной Модели дополнительной глобальной симметрии (т. н. симметрии Печчеи-Квинн), спонтанное нарушение которой и должно приводить к возникновению новой частицы. Теоретические модели аксионов описывают их взаимодействие с веществом в терминах эффективных констант связи, которые, как и масса аксиона mA, оказываются обратно пропорциональны энергетическому масштабу нарушения дополнительной симметрии $f_A$. Изначальные предположения, что нарушение симметрии П-К происходит на электрослабом масштабе были быстро проверены экспериментально, что привело к закрытию гипотезы «стандартного» аксиона. Тем не менее, возникли модифицированные модели, в которых снималось ограничение на величину fA, с увеличением которой подавляется взаимодействие аксиона с веществом и уменьшается его масса. Такой «невидимый» аксион стал выгодным кандидатом на роль частиц тёмной материи, что дополнительно усилило интерес к его экспериментальному обнаружению.
В последнюю декаду активно разрабатываются и проводятся различные эксперименты по поиску аксиона. Среди них в отдельную категорию можно выделить установки нацеленные именно на обнаружение аксионов солнечного происхождения, поскольку в недрах звёзд (и в частности Солнца) они должны интенсивно образовываться в результате ряда предполагаемых механизмов генерации (эффект Примакова, излучение аксиона в ядерных переходах магнитного типа или в качестве тормозного излучения).
В данной работе был проведён поиск аксионов образующихся на Солнце в результате термального возбуждения первого возбуждённого уровня ядра 169Tm (8.41 кэВ) с помощью резонансного поглощения ядрами 169Tm в наземной установке.Измерения производились с помощью криогенного болометрического детектора на основе тулий-содержащего граната $\rm{Tm}_3\rm{Al}_5\rm{O}_{12}$ в течение $3.6$ суток. В результате было получено ограничение на массу аксиона $m_A^{KSVZ} < 141$ эВ и $m_A^{DFSZ} < 244$ эВ в рамках соответствующих теоретичесих моделей (1). Внесение тулия во внутренний объём детектора позволило существенно повысить чувствительность экспериментальной установки к аксионным параметрам, по сравнению с проведёнными ранее экспериментами в классической компоновке «мишень-детектор».
- A. V. Derbin, I. S. Drachnev, V. N. Muratova et al., JETP Lett., 118, p. 160, (2023)
Speaker: Евгений Унжаков (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) -
263
Reaction rates of 6Li(p,γ)7Be process and primordial abundance of the 7Li element
The ”cosmological lithium” problem is connected to the abundance of the lithium isotopes in the Universe and includes two puzzles. The first lithium puzzle is a difference between predictions of the Big Bang nucleosynthesis (BBN) model and astronomical observations in metal-poor halo stars for the primordial 7Li/H ratio. The model predictions (5.61 ± 0.26)ⅹ10-10 [1] and (4.72 ±0.72) ⅹ10-10 [2] are about three to four times larger than values of ⅹ10-10 [3] and ⅹ10-10 [4] from analysis of the observational data. The second lithium puzzle is caused by a disagreement between estimations of model and astronomical observation data for the primordial abundance ratio of the lithium isotopes (6Li/7Li), which means that their discrepancy is about three orders of magnitude. Actually, nuclear astrophysics, cosmology, and astronomical observations are being comprehensively studied to solve these problems.
Nuclear reaction rates involving lithium and beryllium play a major role in the solution of above problems from the nuclear physics side. In particular, in the Ref.[5] the astrophysical direct 6Li(p,γ)7Be capture process has been studied for the purpose of calculation of reaction rates in the frame of the potential model approach. It should be noted that one of the most important input quantity for the estimation of primordial abundances of chemical elements in the BBN model of the Universe is the rates of the basis nuclear reactions. The reaction rate NA(v) is calculated by the well-known expression in Ref.[6] on the basis of calculated cross-section of the 6Li(p,γ)7Be capture process within the potential model. The estimated 7Li=H abundance ratio of (4.67±0.04)ⅹ10-10 [5] is in a good agreement with the recent BBN ratio of (4.72±0.72)ⅹ10-10 [2] after the Planck observation.- A. Coc and E. Vangioni, Int. J. Mod. Phys. E 26, 1741002 (2017).
- B.D. Fields, K.A. Olive, et al. J. Cosmol. Astropart. Phys. 2020, 010 (2020).
- S.G. Ryan, T.C. Beers, K.A. Olive, et al. Astrophys. J. 530, L57 (2000).
- L. Sbordone, P. Bonifacio, et al. Astron. Astrophys. 522, A26 (2010).
- E.M. Tursunov, S.A. Turakulov, K.I. Tursunmakhatov, Phys. Rev. C 108, 065801 (2023).
- NACRE (C. Angulo, et al.). Nucl. Phys. A 656, 3 (1999).
Speaker: Ergash Tursunov (INP, AS Uzbekistan) -
264
The precision measurement of the electron anti-neutrino spectrum in beta-decay of $^{144}$Ce-$^{144}$Pr nuclei
Sterile neutrino search is one of the most challenging frontiers in modern particle physics. There are already present indications of neutrino oscillation to the sterile state coming from both reactor scintillator-based experiments and radiochemical experiments with artificial sources. Still, one of the most promising approaches is usage of an organic scintillator detector with an artificial antineutrino source.
One of the best radioactive sources for such experiments is $^{144}$Ce-$^{144}$Pr due to its ground state transition endpoint energy of almost 3 MeV. The main problem of such source usage is poor spectral shape knowledge producing huge systematic uncertainties to the sterile neutrino search. In this study we evaluate the spectral shape of $^{144}$Pr spectrum with a significantly improved precision. The final value of the total cross section of inverse beta-decay on hydrogen that we obtain is (4.7448±0.0003stat ±0.0041syst)×10−44cm$^2$ disregarding the theoretical precision of the cross-section calculation. Such precision should make the systematic uncertainty related to the spectral shape negligible with respect to the other essential experimental uncertainties.Speaker: Ilia Drachnev (Petersburg Nuclear Physics Institute NRC KI) -
265
iDREAM: нейтринные исследования на промышленном реакторе в интересах атомной отрасли
Детектор реакторных антинейтрино iDREAM расположен на третьем энергоблоке Калининской АЭС на удалении 19.5 метров от центра активной зоны реактора ВВЭР-1000. Детектор ведёт набор данных с 2022 года. Регистрация антинейтринного излучения реактора происходит по реакции обратного бета-распада на протоне в жидком органическом сцинтилляторе, допированном гадолинием (Gd-ЖОС). Масса Gd-ЖОС 1 т. Объем накопленной статистики к настоящему моменту составляет порядка 1 миллиона антинейтринных событий. В докладе будут представлены результаты измерения энерговыработки промышленного реактора нейтринным методом, а также результаты наблюдений за оптической и химической стабильностями Gd-ЖОС детектора iDREAM на протяжении трёх лет.
Speaker: Антон Растимешин (НИЦ “Курчатовский Институт”; НИЯУ МИФИ)
-
260
-
9. Poster Session Атриум (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Атриум
Санкт-Петербургский Государственный Университет
-
266
Измерение сечений излучения γ-квантов отдельных энергий ядрами титана, никеля и кислорода под действием нейтронов энергии 14.1 МэВ
Нейтрон-ядерные реакции исследуются уже довольно долгое время, но тем не менее в этой области еще много работы. Данные по выходам и сечениям излучения γ-квантов отдельных энергий необходимы для развивающихся методик быстрого элементного анализа различных веществ. Проект TANGRA[1,2] (TAgged Neutrons and Gamma-RAys) направлен на изучение взаимодействия быстрых нейтронов с энергией 14.1 МэВ с различными ядрами в фундаментальных и прикладных целях. Для получения временной привязки к моменту рождения нейтрона и оценки направления его движения используется метод меченных нейтронов. В настоящей работе исследуются характеристики γ-квантов, излучаемых продуктами ядерных реакций, проходящих на ядрах титана, никеля и кислорода. Эксперимент и обработка данных выполнялись по методике, описанной в [3]. В докладе будут представлены полученные нами сечения излучения γ-квантов. Для значительного числа переходов эти данные получены впервые. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант No 23-12-00239).
Литература
[1] I. Ruskov, Yu. Kopatch, V. Bystritsky, V. Skoy, V. Shvetsov, F.-J. Hambsch, S. Oberstedt, R. Capote Noy, D. Grozdanov, TANGRA collaboration, Tangra – an experimental setup for basic and applied nuclear research by means of 14.1 MeV neutrons, ND2016, EPJ Web Conf. 146 (2017) 03024, https://doi.org/10.1051/epjconf/201714603024.
[2] I. Ruskov, Yu. Kopach, V. Bystritsky, V. Skoy, D. Grozdanov, N. Fedorov, T. Tretyakova, F. Aliev, C. Hramco, V. Slepnev, N. Zamyatin, A. Gandhi, D. Wang, A. Kumar, E. Zubarev, E. Bogolubov, Y. Barmakov, TANGRA collaboration, TANGRA multidetector systems for investigation of neutron-nuclear reactions at the JINR Frank Laboratory of Neutron Physics, EPJ Web Conf. 256 (2021) 00014, https://doi.org/10.1051/epjconf/202125600014.
[3] Yu. Kopach, D. Grozdanov, N. Fedorov, et al. PEPAN Lett.2025(в печати)
Speaker: Алиса Аверкина (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) -
267
Spectroscopic data on the 25Mg→24Mg+n excited configurations from the 24Mg(d,p)25Mg reaction.
The aim of this work was to obtain precise experimental differential cross sections (DS) of the neutron transfer reaction 24Mg(d,p)25Mg for subsequent extraction of asymptotic normalization coefficients (ANC) and spectroscopic factors (SF). These data are necessary both to clarify the structure of light nuclei and to calculate the astrophysical S-factors of processes in the MgAl cycle of stellar proton burning: 24Mg(p,γ)25A1(β+)25Mg(p,γ)26A1(β+)26Mg, using the relationship between the mirror states of 25Mg and 25Al nuclei.
The DS of the 24Mg(d,p)25Mg reaction have been measured in the forward hemisphere of the angles for the neutron stripping process to the states E$^{\ast}$=0.585 MeV, ½+; 0.975 MeV, 3/2+, 1.61 MeV, 7/2+; 1.96 MeV, 5/2+ and 2.56 MeV, 1/2+ of the 25Mg nucleus at Ed=14.5 MeV. The DS for the E$^{\ast}$=0.0 MeV, 5/2+ is given in work [1] as well as the description of experiment which was carried out at the deuteron beam of the U-150M accelerator of INP RKaz.
The experimental DS have been analyzed in the framework of the modified distorted wave Born approximation (MDWBA) [2] using the DWUCK5 [3] code. Our previous analysis [4] has shown that the neutron transfer to the ground state of the 25Mg nucleus is non-peripheral process. Here it is shown that this process becomes more peripheral with increasing the excitation energy of the final nucleus, which allowed us to estimate the values of the neutron coupling ANC for the above-mentioned excited states of the 25Mg nucleus and evaluate the dependence of extracted SF values on the geometry parameters of the Woods-Saxon neutron binding potential.
The obtained results will be further used to calculate the astrophysical S-factors of the radiative capture process 24Mg(n,γ)25Mg at astrophysical relevant energies.References
1. S.V. Artemov, N. Burtebayev, S.B. Igamov, A.A. Karakhodjaev, O.R. Tojiboev, B.S. Yuldashev // Doklady Akademii Nauk Uzbekistan #3, (2018) 38.
2. S.V. Artemov et al., Eur. Phys. J. A 58:24 (2022).
3. P. D. Kunz, University of Colorado, «Computer code DWUCK5», http://spot.colorado.edu/ kunz/DWBA.html
4. O.R. Tojiboev et al., Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement Vol. 14 (2021)Speaker: Erkinjon Ikromkhonov (Institute of Nuclear Physics, 100214 Tashkent, Uzbekistan) -
268
Analysis of $1^+$ excitations in $^{16}$O with polarized protons inelastic scattering reaction
Nuclei $^{16}$O have closed shells in LS scheme and shouldn’t have $1^+$ excitations. Nevertheless there are at least three excitations of these type observed in (p,p’γ), (e,e’) and (p,p’) reactions at energies 16.22, 17.14 and 18.79 MeV. Also there are three analog states in $^{16}$N and $^{16}$F nuclei. It is needed to include in valence space at least 1p$_{1/2}$ and 1d$_{5/2}$ shells in spherical shell model to produce such excitations. Due to correlations in the ground state the level 1p$_{1/2}$ becomes only partly packed. Probability that both proton and neutron occupy the 1p$_{1/2}$ shell for such limited valence space is only about 70 percent. Excitation of $1^+$ levels is the result of reorientation of spins of protons and neutrons in 1p$_{1/2}$ and 1d$_{5/2}$ shells. It is supposed that these levels have isospin equal to 1 as we see analog levels in the adjacent nuclei.
We made shell model calculations for different valence spaces including 1p$_{1/2}$-1d$_{5/2}$-2s$_{1/2}$ space, 1p$_{1/2}$-1d-2s space and 1p-1d-2s space. Also different hamiltonians were used. The best result we got for the 1p$_{1/2}$ -1d - 2s valence space and an unsatisfactory result for thd 1p-1d -2s valence space. Meanwhile even for the 1p$_{1/2}$ -1d - 2s valence space we got only qualitative description of the energies of excitations and the reduced probabilities of radiation excitation of these levels. Also the theory predicts more $1^+$ levels then have been observed in the experiments.
Excitations $1^+$ in nuclear are characterized by spin and current transition densities which are different for different levels. Inelastic electron scattering excite both but inelastic proton scattering at zero degree excite mainly spin degrees of freedom. Comparing these two types of $1^+$ levels excitation we can deduce the role of spin and current degrees of freedom in every excitation. Unfortunately, the accuracy of this method is not too high. In this work we study the influence of the type of excitation (spin or orbital) on the characteristics of the polarization of the inelastically scattered protons at small angles, precisely on the diagonal coefficients of depolarization. For such unnatural parity excitations the sum of this coefficient at zero angle is nearly equal to one: $D_{LL} + D_{NN} + D_{SS} \approx -1$. Also $D_{NN} = D_{SS}$, but the ratio $D_{NN}/D_{LL}$ is different for different excitations. We inverstigate the dependence of the value of this ratio on the type of the excitaion.
emphasized textSpeaker: Mikhail Onegin (Petersburg Nuclear Physics Institute of NRC Kurchatov Institute) -
269
Astrophysical S-factor and reaction rate of the direct 12C(p,γ)13N capture process
The direct 12C(p,γ)13N radiative capture reaction is the starting point of the CNO cycle in the hydrogen burning process in stars, more massive than the Sun, especially in low mass Asymptotic Giant Branch (AGB) and Red Giant Branch (RGB) stars[1]. The astrophysical S-factor and reaction rate were studied in the framework of the two-body potential cluster model [2, 3]. Comparative analysis of the S factor was performed for various values of the empirical values of the asymptotic normalization coefficients (ANC) of the 13N(1/2-) ground state. The Woods-Saxon type two-body p12C-potential was employed [3, 4], with the central, spin-orbital and Coulomb parts. The geometric parameters of the potential are fitted to the experimental phase shifts of p12C-scattering in the S, P and D-partial waves, as well as the empirical ANC value and the ground (P1/2) state energy of the 13N nucleus. The number C1/2=1.63±0.13 fm-1/2 [5] was chosen among the empirical ANC values from the literature on the basis of the theoretical analysis of the reaction rates. The proposed potential model describes the experimental astrophysical S factors for the direct 12C(p,γ)13N radiative capture reaction at the whole energy region. Furthermore, the reaction rate for this process was estimated in the stellar temperature interval. The obtained theoretical results are in excellent agreement with the new results of the LUNA collaboration [6].
- Borexino Collaboration (M. Agostini, et al.). Nature 587, 577 (2020).
- E.M. Tursunov et al. Phys. Rev. C 108, 065801, (2023).
- E.M. Tursunov, S.A. Turakulov. Nucl. Phys. A 1051, 122931 (2024).
- J.T. Huang et al. At. Data Nucl. Data Tables. 96, 824 (2010).
- S.V. Artemov, et al. European Physical Journal A58, 24 (2022).
- LUNA Collaboration (J. Skowronski, et al.). Phys. Rev. Lett.131, 162701 (2023).
Speaker: Sobir Turakulov (Institute of Nuclear Physics, Academy of Sciences, 100214 Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan; Tashkent State Agrarian University, 100140 Tashkent, Uzbekistan) -
270
Astrophysical S-factor for the 11B(p,γ)12C radiative capture reaction
Recently we presented new calculated data on the astrophysical S – factor of the radiative capture reaction 11B(p,γ)12C [1]. The radiative decay of the resonance states 16.10 (2+), 16.57 (2$-$) and 17.23 MeV (1$-$) into the ground (0+) (γ0 transitions) and the first excited 4.44 MeV (2+) (γ1 transitions) states have been taken into account in the calculations. The calculations were carried out within the framework of the modified R-matrix method, previously proposed by us and successfully applied in [1,2].
The basic idea of the modified R-matrix approach is that when the radiative capture of an incident particle by a target nucleus occurs through compound nucleus stages, the amplitude of the radial wave function of the final nucleus can be expressed through the resonance parameters and asymptotic normalization coefficient (ANC) of the proton coupling in populated state. The use of a priori known values of the ANC in calculations of the astrophysical S-factor significantly simplifies the task of establishing such parameters as the width and energy of resonance states, the radius of the channel, etc., by fitting to experimental S – factors data, which significantly increases the reliability of the calculations.
In this work, in addition to the main channels investigated in [1], the contributions of the subthreshold states E$^{\ast}$=15.11 MeV (1+, Гγ>Гα) and E$^{\ast}$=15.440 MeV (2+) are analyzed, as well as transitions through the state E$^{\ast}$=12.71 MeV (1+), which has a relatively noticeable radiative width.
The astrophysical S-factor of the 11B(p,γ)12C reaction was recalculated taking into account the additional channels mentioned above. The experimental values of the astrophysical S-factor were taken from Refs. [3-7]. Preliminary calculation results show a sensitive change in the behavior of the astrophysical S-factor to taking into account the additional channels at astrophysically important low energies.References
1.S.K. Sakhiyev, S.V. Artemov, N. Burtebayev et al, Results in Physics V7, 108050 (2024)
2. N. Burtebaev, S.B. Igamov, R.J. Peterson, R. Yarmukhamedov and D. M. Zazulin, Phys. Rev. C 78, 035802 (2008)
3. J.J. He et al., Phys. Rev. C 93, 055804 (2016)
4. J.H. Kelley, J.E. Purcell, C.G. Sheu, Nuclear Physics A 968, 71 (2017)
5. F.E. Cecil et al,Nucl. Phys. A 539, 75 (1992)
6. J.H. Kelley, et al, Phys, Rev. C 62, 025803 (2000)
7. T. Huus and R.B. Day, Phys. Rev. 91, 599 (1953)Speaker: Sayrambay Igamov (Institute of Nuclear Physics, 100214 Tashkent, Uzbekistan) -
271
Asymptotic normalization coefficients from the proton transfer ${\rm^{14}C}({\rm^{3}He},{d}){\rm^{15}N}$ reaction
In this work, we analyzed the differential cross sections (DCS) of the ${\rm^{14}C}({\rm^{3}He},{d}){\rm^{15}N}$ proton transfer reaction using the Modified Distorted Wave Born Approximation (MDWBA) method. From this analysis, the squared values of the Asymptotic Normalization Coefficients (ANCs) for the ground and excited states of ${\rm^{15}N}$ → ${\rm^{14}C}+p$ were extracted. In addition to providing new insights into the structure of the ${\rm^{15}N}$ nucleus, knowledge of the squared ANC for the ${\rm^{15}N}$ → ${\rm^{14}C}+p$ configuration is essential for calculating the proton radiative capture cross section ${\rm^{14}C}({p},{\gamma}){\rm^{15}N}$. This reaction competes with the neutron capture reaction ${\rm^{14}C}({n},{\gamma}){\rm^{15}N}$, which is considered in inhomogeneous Big Bang models [1]. In this context, the competing ${\rm^{14}C}({p},{\gamma}){\rm^{15}N}$ reaction influences the nucleosynthesis scenario and requires careful evaluation. This leads to a higher reaction rate for ${\rm^{14}C}({p},{\gamma}){\rm^{15}N}$ at lower temperatures [2], significantly enhancing the role of this reaction in the synthesis of heavier elements in the low-energy region during various stages of the Universe’s formation and evolution [3].
The experimental data were taken from [4]. The optical potential (OP) parameters used in the DCS calculations within the MDWBA framework are provided in [4-6]. To assess the peripherality of proton transfer, the geometric parameters of the Woods–Saxon (WS) potential for the bound state of the proton in the ${\rm^{15}N}$ nucleus were varied within the ranges 1.10<r0<1.40 fm and 0.5<a<0.8 fm. It showed that the transfers of a proton to the ground state as well as to 5.27 MeV (5/2+), 5.30 MeV (1/2+), 6.32 MeV (3/2-), 7.16 MeV (5/2+) and 7.30 MeV (3/2+) states of the 15N nucleus are practically peripheral, since the spread of the test function ρ(b) values does not exceed the experimental DCS errors. At the energies considered, all studied reactions were found to be peripheral in the region of the main diffraction maximum of the angular distribution of the emitted deuteron. The squared values of the ANCs were extracted by normalizing the calculated DCS to the experimental data using a χ2 minimization criterion, considering all measured angles within the region of the main maximum of the deuteron angular distribution. The complexity of this work lies in the fact that the first (5.27 MeV) and second (5.30 MeV) excited states of the ${\rm^{15}N}$ nucleus under study are located very close to each other. Therefore, in [4], the experimental differential cross-section values are reported jointly for both excited states We extracted the ANC values for both excited states separately, following the approach in [7]. For ${\rm^{3}He}$ → d+p binding, the value of the squared ANC was used equal to 4.28±0.50 ${fm}\rm^{-1}$ [8]. The values of the ANC squares were found to be 4.32±0.76 ${fm}\rm^{-1}$, 12.52±2.17 ${fm}\rm^{-1}$, 0.48±0.09 ${fm}\rm^{-1}$, 0.032±0.007 ${fm}\rm^{-1}$ and 0.0068±0.0015 ${fm}\rm^{-1}$ for the states 5.27 MeV, 5.30 MeV, 6.32 MeV, 7.16 MeV and 7.30 MeV, respectively. These findings demonstrate that such reactions provide a reliable method for determining ANCs, even for tightly bound proton states.
References:
1. R. Malaney and W. Fowler, Astrophys. J. 333, 14 (1988).
2. F. Ajzenberg-Selove, Nucl. Phys. A. 506, 1, (1990).
3. J.H. Applegate et al., Astrophys. J. 329, 572 (1988).
4. R.R. Sercely et al., Nucl. Phys. A 324, 53 (1979).
5. An Haixia and Cai Chonghai, Phys. Rev. C 73, 054605, (2006).
6. Y. Zhang et al., Phys. Rev. C 94, 014619. (2016).
7. K. I. Tursunmakhatov and E.Sh. Ikromkhonov., Int. J. Mod. Phys. E 32, 2350035 (2023).
8. S.V. Artemov et al., Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 73, 165 (2009).Speakers: Azizbek Tulkinov (National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan), Elbek Ruziev (Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan) -
272
Cluster folding analysis of the 13C + 12C system at energies near the Coulomb barrier
Motivated by the cluster structure of $^{13}$C, where a $^{12}$C core is coupled with a neutron at an excitation energy of 4.946 MeV, we investigated the effects of single-nucleon transfer between $^{13}$C and $^{12}$C nuclei. The neutron stripping transfer reaction, $^{12}$C($^{13}$C,$^{12}$C)$^{13}$C, was studied at center-of-mass energies (E$_{c.m.}$) ranging from 7.8 to 49.14 MeV. We analyzed both elastic scattering and elastic transfer data using the optical model (OM) and the Distorted Wave Born Approximation (DWBA). The analysis incorporated a cluster folding potential, which accounts for the cluster nature of the $^{13}$C nucleus-comprising a $^{12}$C core with a valence neutron orbiting around it. Our results show reasonable agreement with the experimental data across the entire energy range. Furthermore, we extracted the spectroscopic amplitude for the $^{13}$C->$^{12}$C+n configuration, and the obtained values are consistent with previously reported results.
Speaker: Daniyar Janseitov (Institute of nuclear Physics, Almaty city, Kazakhstan) -
273
Cross sections of gamma-quanta production with the energies of 0.429 and 0.478 MeV in the reactions 6Li+d and 7Li+d
The paper presents a new evaluation of integral cross sections of $\gamma$-quanta production with the energies of 0.429 and 0.478 MeV in the reactions 6Li(d,n1)7Be$^{\ast}$(0.429) (Figure), 6Li(d,p1)7Li$^{\ast}$(0.478), 7Li(d,2n)7Be$^{\ast}$(0.429) and 7Li(d,d1)7Li$^{\ast}$(0.478) obtained with the use of mathematical tools of SaBa [1] electronic library. Uncertainty of evaluated data is in the range of 0.2-11.2%. The reason of the research are the results of our new experiments (random error 5-10%, systematic error 4%) on $\gamma$-quanta registration with HPGe-detector on EGP-10 tandem accelerator of RFNC-VNIIEF at deuteron energies from 2 to 10 MeV with a step of 200 keV. Two LiF targets with thicknesses of 300 mu-g/cm2 (6Li – 70%, 7Li – 30%) and 270 mu-g/cm2 (6Li – 91.06%, 7Li – 8.94%) on thin aluminium and carbon backings were used. Data on the reaction 7Li(d,2n)7Be$^{\ast}$(0.429) were obtained during the measurements of 6,7Li(d,xt) reactions [2] on Li3N with lithium isotope composition 6Li -0.5%, 7Li -99.5%.
This work extends our research [3] on evaluation of 6Li(d,p0,1,2,4) integral cross sections and the corresponding 6Li(d,n0,1,2,4) mirror reactions.- A.G. Zvenigorodskij et al., IAEA-NDS-191 (1999).
- L.N. Generalov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 85, 574 (2021).
- L.N. Generalov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 86, 937 (2022).
Speaker: Sophiya Taova (All Russian Research Institute of Experimental Physics) -
274
Development of EXFOR-Editor software package to input information on nuclear reactions into the EXFOR library
Compilation of experimental data on nuclear reactions for the International library EXFOR is a priority for the Center of Nuclear Physics Data at RFNC-VNIIEF [1]. For this purpose there has been designed and now is actively developed the EXFOR‑Editor software package [2]. It is used in the leading data centers on nuclear reactions (USA, India, China, Japan etc). Elaborate structure, variety of features and user-friendly interface are the advantages of EXFOR‑Editor. The core of the package is a multifunctional editor providing the creation of experimental data set in a special format to enter it to the EXFOR library.
New mode of data processing in EXFOR-Editor – creation of the exchange file Trans to transmit into the EXFOR library is presented. Procedures of Trans checking for EXFOR format compliance are described.1. G.N. Pikulina et al., Vopr. At. Nauk. F.Reak. 4, 158 (2018). 2. G.N. Pikulina et al., J.Nucl. Sci. Techn. 61, 146 (2024).Speaker: Galina Pikulina (All Russian Research Institute of Experimental Physics) -
275
Evaluation of the nuclear temperature in low-energy fission by isoscaling
Isoscaling is a feature typical of statistical processes. As anticipated by theoretical studies about two decades ago [1], this phenomenon was proved by the analysis of selected fission fragment yields available in the public domain [2]. These comprehensive data provide a field of successful studies to the present time [3].
In this regard we analysed fission fragment yields taken from the data library [4], assigned to certain classifications of low-energy fission processes. Fission fragment yields $Y_1$, $Y_2$ within 25 < $Z$ < 70, delivered by the low-energy fission of nuclei in the range from Th to Fm, were analysed according to the relation$$ Y_2(N,Z)/Y_1(N,Z) = \text{const} \cdot \exp(\alpha N + \beta Z) $$ The processed data showed by the majority an exponential dependence of the ratio of related pairs of fission fragment yields versus their charge $Z$ or neutron numbers $N$. This behavior, denoted as isoscaling,indicates statistcal features in the fission mechanism. Therefore, one expect a dominant role of the symmetry energy of nuclear matter. The isoscaling parameters $α$ and $β$ were derived by fits to the exponential plots. In the framework of statistical models the isoscaling parameters $α$ and $β$ are related to the neutron and proton chemical potentials, i.e the nucleonic compositions of the nuclear systems (s) undergoing fission as well as to the intrinsic nuclear temperature $T$ by the equation including the symmetry energy coefficient $C_{sym}$: $$ α T = 4 C_{\text{sym}} Δ ( Z/A)^2 s $$ This relation was used for a lot of ratio combinations of fission fragments with pronounced isoscaling features, i.e. which are indicated by a regular trend of the isoscaling parameters $α$ on $Z$ or $β$ on $N$. The nuclear temperatures, obtained on such conditions, are in agreement with those evaluated by the isotope thermometry approach [5]. Apart from that, deviations from the regular behavior of the isoscaling parameter $α$ on $Z$ ($β$ on $N$) indicate on appreciable contributions of shape deformations and shell effects in addition to the symmetry energy and require involved corrections.
1. W.A. Friedman, Phys. Rev. C 69, 031601 (2004); A.S. Botvina et al., Phys. Rev. C 65, 044610. (2002).
2. M.B. Tsang et al., Phys. Rev. Lett. 86, 5023 (2001); M. Veselsky et al., Phys. Rev. C 69, 031602 (2004).
3. Y.-J. Chen et al., Chinese Physics C 45, 084101 (2021); S. Kundu et al., // DAE Symp. Nucl. Phys. 67, 681, (2024).
4. https://www-ndc.iaea.org, ENDF/B.
5. M.N. Andronenko et al., //BRAS 2020, 84, 1540.Speaker: Lyudmila Andronenko (PNPI of NRC KI) -
276
Experimental study of the processes of elastic and inelastic scattering of protons on the 45Sc nucleus at an energy of 22 MeV
The processes of scattering of light charged particles ($p$, $d$, $t$, $^3\mathrm{He}$, $^4\mathrm{He}$) on nuclei at low and medium energies are the main source of information on the properties of the internuclear interaction potential, which is one of the fundamentally important problems of nuclear physics. The totality of data of the last decades on the structure of nuclei and the mechanism of reactions in the energy range $\geq 10\ \mathrm{MeV/nucleon}$ indicate the dominant role in the formation of their cross sections of more complex processes that differ in their nature from classical ones and their relationship with the structure of interacting systems. The specificity of studying the mechanisms of nuclear reactions at the present stage is associated with the need to measure the energy spectra of reaction products in the fullest possible range of particle energies: from the Coulomb barrier energy up to energies corresponding to the formation of the final nucleus in the ground state. The objective of this study is an experimental and theoretical study of the clustering phenomenon using the $^{45}\mathrm{Sc}$ nucleus as an example.
The elastic and inelastic scattering cross sections of $22\ \mathrm{MeV}$ protons on a $2\ \mu\mathrm{m}$
thick Sc target were measured at the U-150M cyclotron of the Institute of Nuclear Physics (Almaty, Kazakhstan). A $60\ \mathrm{cm}$ diameter scattering chamber was used for the experiment. The reaction products were recorded using semiconductor telescopes consisting of two detectors: $\Delta E\ (100\ \mu\mathrm{m})$ and $E\ (3200\,\mu\mathrm{m})$, designed to measure specific losses and residual energy $E_r$. This telescope configuration made it possible to identify the reaction products by charge $Z$ and mass $A$, and to measure their total kinetic energy by summing up the calibrated values of specific losses. The experimental results obtained and their comparison with the theoretical analysis will be presented.Speaker: Bakhtiyar Sadykov (Institute of Nuclear Physics, Almaty, Kazakhstan) -
277
Interaction of 22 MeV protons with a nucleus of 90Zr
Experimental data on the double differential and integral cross-sections of reactions induced by nucleons in the energy range of 20-200 MeV plays a major role in the field of radioisotope production, radiation safety and protection, development of libraries of evaluated nuclear data and models of nuclear reactions. At the same time, the study of such reactions will help to better understand the dynamics of the contribution of pre-equilibrium processes to the overall energy spectrum of secondary particles.
In this paper, we present the first measured double-differential cross-sections of the reactions (p,xp) and (p,xα) formed during the interaction of 22 MeV protons with the 90Zr nucleus. Zirconium is one of the promising materials for various applications due to its high melting point (2125 K) and small cross-section for the capture of slow neutrons.
The experiment was carried out at the U-150M cyclotron of the Institute of Nuclear Physics (Almaty, Republic of Kazakhstan). The reaction products were identified by the (ΔE–E) method using a multidimensional programmable analysis system based on ORTEC spectrometric electronics. Silicon and scintillation detectors CsI(Tl) were used to register the reaction products. As a target, a thin metal foil of 90Zr with a thickness of 2.13 mg/cm2 was used.
The theoretical analysis of the experimental results was performed within the framework of the exciton model of pre-equilibrium decay of nuclei using the TALYS program [1]. Satisfactory agreement was obtained between the experimental and calculated values in the energy range corresponding to the pre-equilibrium mechanism.
The work was carried out within the framework of program-targeted funding of scientific and technical programs of the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan, grant No. BR23891530.Speaker: Mrs Gulnaz Ussabayeva (Institute of Nuclear Physics, Almaty, Kazakhstan) -
278
Long yrast band in $^{164}$Er
In a number of works, starting with [1], the term $k\hat{I}\hat{I}/(1+f\hat{I}\hat{I})$ was introduced into the IBM boson Hamiltonian to describe the compression of the energies of collective states, where $\hat{I}$ is the angular momentum operator. Using this additional term, collective states of the bands were considered, including in $^{164}$Er. In this nucleus, the states of the collective band are the states of the yrast band up to the spin $14^+_1$, and for large spins these will be the following excitations, namely $18^+_2$ , $20^+_2$, $22^+_2$. States $16^+_1$ and $16^+_2$ must be strongly mixed both with each other and experience strong fusion of other states containing quasiparticle pairs. The introduction of an additional term into the Hamiltonian is motivated by the experimental fact of compression of the spectrum of states with increasing spin. However, this also occurs due to the growth of the influence of non-collective states on collective states with increasing spin, ultimately leading to the bands crossing. For $^{164}$Er, the longest yrast band of all even Er isotopes is observed. The effective (kinematic) moment of inertia for it, as can be seen from the figure before the spin of the $14^+_1$, gives a practically linear dependence on the square of the rotation frequency. Then, from spin $18^+_1$, there is a smooth decrease in the moment of inertia down to the state with spin $36^+_1$. We analyzed this situation through the dual use of IBM. Namely, the parameters of the IBM Hamiltonian with the maximum number of bosons $\Omega=14$ were determined from the energies of the $2^+_1$, $4^+_1$, $6^+_1$, $8^+_1$, $10^+_1$, $12^+_1$, $14^+_1$, $18^+_2$, $20^+_2$, $22^+_2$, states. It was further assumed that a quasiparticle strip is constructed from the very beginning on a two-quasiparticle state with spin $J_q=10^+$ and energy $E_q$. The energies of this band are determined by the energies of states with spins from $18^+_1$ to $36^+_1$, and for IBM, minus $J_q=10^+$, these states have spins from $8^+_1$, to $26^+_1$ at $\Omega=13$. The quasiparticle energy $E_q=2.7$ MeV was determined in such a way that the energy match was the best. The results of the calculations, displayed through the moments of inertia, are given in the figure and, as we can see, are quite consistent with the experimental data, including the decrease in the moments of inertia after the state with spin $18^+_1$. The reason for this lies in the spin dependence of the moment of inertia. Thus, here we have the longest band of collective states that appears after the bands crossing. Moreover, the energies of the states of the strip formed after the crossing of the stripes are extremely close to the $SU$(3) IBM limit. This is manifested in the fact that the ratio of the energies of the band states to the energies of the purely rotational band are respectively equal to 1, 0.993, 0.985, 0.974, 0.96, 0.945, 0.928, 0.91, 0.891, 0.87, 0.85, 0.829, 0.806 for spins from $2^+_1$ to $26^+_1$.
- N. Yoshida et al., Physics Letters B 256, 129 (1991)
Speakers: Prof. Igor Izosimov (3Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia.), Prof. Ilona Koval (1Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg, Russia.) -
279
Neutrinoless double electron capture under X-rays
We consider possible effect of electromagnetic radiation on the neutrinoless double-electron capture − 0ν2eс. For cases of X-ray free electron lasers − XFEL and/or inverse Compton X-ray sources it is shown that such a decay can be significantly enhanced due to tuning the system to the resonant conditions through an absorption and/or emission of a photon with the decay resonance defect energy Δ . For a case of 78Kr → 78Se − 0ν2eсL1L1 capture we demonstrate a possibility of increasing decay rate to ten orders of magnitude or even larger.
Speaker: Vladimir Kondratyev (JINR) -
280
Optical-model analysis of the deuteron elastic scattering on 12С nucleus with the resonant part contribution
Optical-model analysis of all available data of deuteron elastic scattering on 12C nucleus with the usage of the optical-model program code OptModel [1,2].The fitting of the differential cross sections on deuteron energies from 0.45 to 270 MeV and 12C+d reaction total cross sections from 0.43 to 171 MeV was performed. The violation of the scattering matrix unitarity (optical-model plus resonant parts) was less than 14% at separate energy points. It was on the level of the mean errors of analyzed data. There was no an essential difference of the values of the optical potential parameters in comparison with [1] except the value of the Rutherford scattering radius.
The quality of the fitting was improved. Total reaction cross sections are presented in the figure.
1. L.N. Generalov, V.A. Zherebtsov, S.M. Selyankina // Book of abstracts LXXIV Int. Conf. “Nucleus-2024”. Dubna. 2024. P. 323.
2. L.N. Generalov, V.A. Zherebtsov. A.V. Morozova et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 88 (2024) 1825.Speaker: Svetlana Selyankina (All Russian Research Institute of Experimental Physics) -
281
Optical-model analysis of the proton elastic scattering on 12C nucleus with resonant part contribution
The fitting of all available experimental data of proton elastic scattering on 12C nucleus with the usage of the optical-model program code OptModel [1,2] was performed: differential cross sections at proton energies from 0.4 to 280 MeV, polarization data at the 6-180 MeV interval and 12C+p reaction total cross sections from 4.5 to 171 MeV. The violation of the scattering matrix unitarity (optical-model plus resonant parts) was less than 15% at separate energy points. It was at the level of the mean errors of the analyzed data. Total cross sections of the reaction are presented in the figure as an example.
- L.N. Generalov, V.A. Zherebtsov, S.M. Taova // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 80 (2016) 295.
- L.N. Generalov, V.A. Zherebtsov, S.M. Selyankina // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 85 (2021) 1136; L.N. Generalov, V.A. Zherebtsov, S.M. Selyankina // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 87 (2023) 1918; L.N. Generalov, V.A. Zherebtsov, S.M. Selyankina // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 87 (2023) 1907; L.N. Generalov, V.A. Zherebtsov, S.M. Selyankina // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 87 (2023) 1899.
Speaker: Svetlana Selyankina (All Russian Research Institute of Experimental Physics) -
282
Study of excitation of isomeric states in reactions (γ,n), (n,2n) and (n,γ) on 108,110Pd nuclei
In this work, we studied the excitation cross sections of isomeric states in nuclear reactions of the (γ,n), (n,2n) and (n,γ) type on 108,110Pd nuclei. The isomeric yield ratios were measured by the induced radioactivity method. Samples of natural Ba (the barium peroxide samples) have been irradiated in the bremsstrahlung beam in the energy range of 12-35 MeV with energy step of 1 MeV. For 14,1 MeV neutron irradiation, we used the NG-150 neutron generator. For the (n, γ) reaction, experiments were carried out at the ВВЗ-СM research reactor of the Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Speaker: Satimboy Polvonov (National University of Uzbekistan) -
283
The model of nuclear multipole transitions excitation by Laguerre-Gaussian beam
We theoretical calculated the probability of nuclear multipole transitions excited by Laguerre-Gaussian (LG) modes, and made a comparative analysis of its behaviors from both plane waves and Bessel mode.
Over the past few years, the interaction between matter and twisted light has been extensively studied, with particular interest in the forbidden multipole transitions induced by twisted light. Theoretical methods for generating high energy twisted photons have been proposed in $[$1] and [2], making the excitation of nuclear multipole transitions by twisted light experimentally feasible.
For the 8 eV nuclear transition in $^{229}$Th induced by absorption of twisted photons, theoretical calculations have been performed, using the wave functions of the Bessel mode, with the results presented as transition probabilities dependent on the impact parameter [3].
A prediction was given in [3], that for this transition, when the impact parameter is small, the excitation by idealized Bessel modes and the LG modes should give similar results in twisted light. This prediction remains to be demonstrated. Furthermore, this question is worth research due to the prevalent application of the LG mode in experiments [4].
The probability of nuclear multipole transitions excited by twisted photons with Bessel-Gaussian mode and the corresponding the selection rules have been given in the work of [5]. We applied methods similar to those in the works of [5] and [6] to calculate the probability of nuclear multipole transitions excited by twisted photons of LG modes and compared the LG01 mode with the Bessel modes under conditions of small transverse momentum.
We have reached the following conclusions:
a) Obtained the general form of probability of nuclear multipole transitions excited by twisted light, that is described by LG$_{nm}$ mode.
b) Confirmed that the nuclear multipole transition probabilities induced by the LG$_{00}$ mode and those induced by plane waves are formally
similar.
c) Found that under condition of small impact parameter, the LG$_{01}$ mode predicts the same behavior as the Bessel mode twisted light in nuclear excitation of multipole transitions.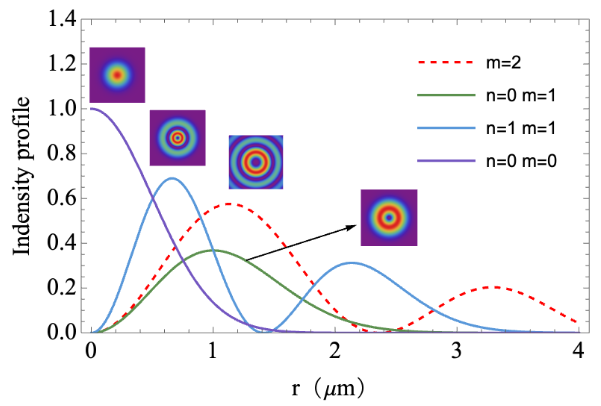
Figure 1. Intensity profiles of Bessel mode for m=2 (dashed line) and the LG$_{nm}$ mode (solid line), where n is radial indices, m is projection of total angular momentum.References
1. Jentschura U D and Serbo V G 2011 Phys. Rev. Lett. 106 013001
2. Bogdanov O V et al. 2019 Phys. Rev. D 99 116016
3. Kirschbaum T et al. 2024 Phys. Rev. C 110 064326
4. Yang Y et al. 2022 J. Opt. 51 910-926
5. Kazinski P O and Cokolov A A 2024 Phys. of Atom. Nuclei 87 561-569
6. Peshkov A A et al. 2017 Phys. Rev. ASpeaker: Yanzhao Wang (Tomsk Polytechnic University) -
284
Вопросы мониторирования излучений при исследовании фотоядерных реакций и активации материалов на линейном электронном ускорителе
В работе внимание направлено к вопросам из области исследования фотоядерных реакций при низких (до 10 МэВ) энергиях тормозного излучения электронов линейного ускорителя [1]. На линейном ускорителе ЛУЭ-8-5 ИЯИ РАН ранее были получены улучшенные характеристики пучков электронов с высоким энергетическим разрешением около 1 % (характерное у этой серии ускорителей порядка 10%) для исследования ядерных изомеров вблизи порога возбуждения пигми-резонансов при энергии 4–10 МэВ [2, 3].
Задачи мониторирования как основного гамма-излучения при взаимодействии пучка электронов с мишенями, так и вторичных возможных излучений, в частности, при использовании мишеней из бериллия, содержат особенности и определенные требования. Были проведены пробные измерения уровней вторичных излучений и гамма-фона вблизи W-конвертора и мишенной сборки внутри защитного контейнера из борированного полиэтилена. Результаты измерений возникающих суммарных потоков излучений в режиме реального времени обрабатывались с помощью микрокомпьютерного модуля Raspberry Pi и сохранялись в базе данных сервера Института [4]. Точность измерений мониторами радиоактивного фона составляла для вторичных излучений порядка 0.01 частиц/(см$^{2}$∙мин) и 0.02 мкЗв/ч для гамма-излучения. Измерения проводились при энергии электронов 8 МэВ и при нескольких значениях среднего тока от 1 мкА до 40 мкА. Выявлены вклады вторичного радиационного излучения от взаимодействия тормозного излучения с элементами конструкций мишенного устройства, активированных радионуклидов в образцах композитного материала и мишенях внутри защитного контейнера из борированного полиэтилена.
Анализ результатов измерений показывает, что внутри защитного контейнера происходит активация материалов с образованием короткоживущих нуклидов, которые могут быть идентифицированы по времени жизни и спектральному анализу излучения. В работе делается заключение о возможном определении характеристик протекающих фотоядерных реакций тормозного излучения на изотопах водорода, азота, кислорода, алюминия.
Список литературы
1. Капитонов И. М., ВМУ. Серия 3. Физ. Астр. 78(3), 2330201 (2023).
2. Пономарев, В. Н.. и др., Изв. РАН Сер. физ.Т. 83, № 9 1270 (2019).
3. Мордовской М. В. и др., ВМУ. Сер. 3. Физ. Астр. 78(4), 2340203 (2023).
4. Новиков Д. В. и др., Науч. приборостр. Т. 28, № 3, 24 (2018).Speaker: Вячеслав Мицук (ИЯИ РАН) -
285
Исследование вклада вторичного излучения в энергетические спектры, полученные в рамках эксперимента MONUMENT
В рамках эксперимента MONUMENT, направленного на изучение процессов мюонного захвата в различных ядрах, исследован вклад вторичного излучения в формирование энергетических спектров ядер 136Ba и 76Se. Под вторичным понимается излучение, сопровождающее процесс мюонного захвата, но не являющееся результатом девозбуждения ядра через испускание гамма-квантов. Были изучены спектры, полученные с использованием HPGe-детекторов, и оценена роль фотонов мезорентгеновского излучения и нейтронов. Особое внимание уделено анализу интенсивности нейтронного излучения, возникающего непосредственно в результате мюонного захвата, а также определению временной константы, входящей в экспоненциальный закон затухания нейтронных сигналов. Эти результаты имеют значение для повышения точности определения параметров, характеризующих процессы мюонного захвата.
Speaker: Дмитрий Илюшкин (Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия; Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия) -
286
Исследование выхода нейтронов в D+D ядерных реакциях в мишенях Pt, Ti, CVD-алмаз на ускорителе ГЕЛИС
Исследование процесса насыщения дейтерием различных кристаллических мишеней пучком ионов дейтерия и скорости протекания D+D ядерных реакций в кристаллических структурах имеет важное значение при разработке мишеней-конвертеров для нейтронных генераторов. Облучение мишеней Pt, Ti и CVD-алмаз пучком ионов дейтерия проводилось на ускорительной установке ГЕЛИС (Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва). Энергия ионов дейтерия варьировалась от 10 до 45 кэВ при токе пучка от 20 до 100 мкА. Регистрация быстрых нейтронов, образующихся в реакциях синтеза ядер дейтерия, осуществлялась сцинтилляционными детекторами с органическими кристаллами. Калибровка сцинтилляционных детекторов была выполнена с использованием нейтронного генератора ИНГ-061.
В настоящей работе представлены результаты экспериментов по облучению дейтерием мишеней из Pt, Ti и поликристаллического CVD-алмаза. Измерен выход нейтронов из данных мишеней в зависимости от времени облучения, параметров пучка ионов дейтерия и температуры мишени. При энергии ионов дейтерия 30 кэВ и токе пучка 50 мкА выход нейтронов в D+D реакции в Pt мишени составил 8,5•10-11 нейтрон/ион, в Ti мишени – 3,2•10-11 нейтрон/ион, в CVD-алмазе – 5,1•10-11 нейтрон/ион.
Выполнено моделирование прохождения ионов дейтерия в веществе указанных мишеней. По экспериментальным данным и с учётом моделирования рассчитаны значения концентрации дейтерия в Pt, Ti и CVD-алмазе в зависимости от времени облучения, тока пучка, энергии ионов дейтерия и температуры мишени. Полученные результаты представлены в докладе.Speaker: Михаил Кирсанов (НИЯУ МИФИ) -
287
Исследование процессов упругого рассеяния $^{11}$B(p,p)$^{11}$B при низких энергиях
Одной из актуальных задач ядерной астрофизики является выяснение причин повышенного содержания лёгких элементов (Li, Be, B) во Вселенной. Эти элементы не могут эффективно синтезироваться в звёздах в ходе стандартных процессов нуклеосинтеза, поскольку уже при температурах порядка 2–5·10$^{6}$ К они интенсивно разрушаются в реакциях типа (p,$\gamma$) и (p,$\alpha$). Согласно теоретическим расчётам, в таких условиях содержание изотопов лития, бериллия и бора должно составлять не более 10$^{-13}$ по отношению к водороду. Однако астрономические наблюдения показывают, что их реальное количество в 100–1000 раз выше.
Прямое измерение сечений ядерных реакций, таких как (p,$\gamma$), (p,$\alpha$) и других, на лёгких ядрах при очень низких энергиях, соответствующих температурам порядка 10$^{7}$ К, позволяет проверить различные теоретические модели, объясняющие наблюдаемое распределение химических элементов во Вселенной. Кроме того, исследование процессов упругого рассеяния протонов на лёгких ядрах при низких энергиях необходимо для получения точных параметров протон-ядерных потенциальных моделей, применяемых в расчетах ядерных реакций с астрофизической значимостью.
Особый интерес представляет исследование упругого рассеяния протонов на изотопе $^{11}$B, учитывая его важную роль в перспективных термоядерных энергетических установках. В частности, радиационные захваты на$^{11}$B несут информацию о концентрации этого изотопа и особенностях его сгорания в термоядерных реакциях.
Экспериментальная часть настоящей работы была проведена с использованием протонного канала ускорителя УКП-2-1 РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК. В качестве мишеней применялись тонкая самоподдерживающаяся фольга из $^{11}$B толщиной 313 мкг/см$^{2}$ с известным изотопным обогащением, изготовленные с помощью электронно-лучевого напыления на установке ВУП-2.
Было выполнено подробное измерение дифференциальных сечений упругого рассеяния протонов на ядре $^{11}$B в диапазоне углов от 10$^{0}$ до 168$^{0}$ с шагом 10$^{0}$ при энергиях налетающих протонов 1200, 1000, 800, 600 кэВ. Погрешность экспериментальных данных по дифференциальным сечениям упругого рассеяния протонов на $^{11}$B составляет 10%.INVESTIGATION OF THE ELASTIC SCATTERING PROCESSES $^{11}$B(p,p)$^{11}$B AT LOW ENERGIES
A.K. Nurpeisov
Al-Farabi Kazakh National University, 050040 Almaty, Kazakhstan
email: aiken9898@mail.ruOne of the current tasks of nuclear astrophysics is to clarify the reasons for the increased abundance of light elements (Li, Be, B) in the Universe. These elements cannot be effectively synthesized in stars during standard nucleosynthesis processes, since already at temperatures of about 2–5·10$^{6}$ K they are intensively destroyed in reactions of the (p,$\gamma$) and (p,$\alpha$) type. According to theoretical calculations, under such conditions the content of lithium, beryllium, and boron isotopes should not exceed 10$^{-13}$ relative to hydrogen. However, astronomical observations show that their actual amount is 100–1000 times higher.
Direct measurement of nuclear reaction cross sections, such as (p,$\gamma$), (p,$\alpha$), and others, on light nuclei at very low energies corresponding to temperatures of about 10$^{7}$ K, makes it possible to test various theoretical models explaining the observed distribution of chemical elements in the Universe. In addition, the study of elastic scattering processes of protons on light nuclei at low energies is necessary to obtain accurate parameters of proton-nucleus potential models used in the calculations of nuclear reactions of astrophysical importance.
Of particular interest is the study of proton elastic scattering on the isotope $^{11}$B, given its important role in promising thermonuclear energy systems. In particular, radiative captures on $^{11}$B provide information about the concentration of this isotope and the features of its burning in thermonuclear reactions.
The experimental part of this work was carried out using the proton beam line of the UKP-2-1 accelerator of the Institute of Nuclear Physics, Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan. As targets, thin self-supporting foils of $^{11}$B with a thickness of 313 µg/cm$^{2}$ and known isotopic enrichment were used, prepared by electron-beam deposition using the VUP-2 setup.
A detailed measurement of the differential cross sections of proton elastic scattering on the $^{11}$B nucleus was performed in the angular range from 10$^{0}$ to 168$^{0}$ with a step of 10$^{0}$ at incident proton energies of 1200, 1000, 800, and 600 keV. The uncertainty of the experimental data on the differential cross sections of proton elastic scattering on $^{11}$B is 10%.Speaker: Айкен Нурпеисов (Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан) -
288
Исследование характеристик сцинтилляционных детекторных модулей для их использования в позитронно-эмиссионной томографии
На современном этапе развития ядерной медицины широко применяются детекторные технологии для проведения диагностических процедур в сфере кардиологии, неврологии и особенно в онкологии, для раннего выявления злокачественных образований. В этом контексте, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) играет важную роль, давая возможность визуализировать биологические процессы на клеточном уровне и выявлять патологии еще на ранних стадиях их развития.
Одним из ключевых компонентов ПЭТ-сканера являются сцинтилляционные сенсоры. Постоянно возрастающие требования к чувствительности, разрешающей способности и скорости детектирования гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов (область локализации радионуклидов, испускающих эти позитроны), ставят задачи по поиску новых сцинтилляторов с улучшенными характеристиками.
Сегодня во многих ПЭТ-сканерах для регистрации гамма-квантов используют сцинтилляционные сенсоры на основе кристаллов NaI(Tl) и фотоэлектронные умножители на базе вакуумных трубок. Однако, для повышения детализации радионуклидных изображений более подходящими оказываются детекторные модули на основе кристалла BGO (германат висмута) и LSO (оксиортосиликат лютеция) в совокупности с кремниевыми фотоумножителями (SiPM).
В представленной работе проводились исследования характеристик детекторных модулей на базе кристалла BGO и кремниевых фотоумножителей для их использования в новых приборах позитронно-эмиссионной томографии. Был сконструирован сцинтилляционный гамма-спектрометр, при помощи которого получены оптимальные параметры (эффективность регистрации, энергетическое разрешение) прибора для регистрации анигиляционных гамма-квантов. Проведён сравнительный анализ характеристик детекторных модулей с кристаллами BGO и модулей на основе LSO, что позволило сформировать фундамент для разработки новой детекторной системы. Впоследствии эта система будет задействована в изучении характеристик сцинтилляционных сенсоров, которые затем найдут применение в ПЭТ-комплексах, использующих время-пролётный метод.
Speaker: Дарья Комарова (Санкт-Петербургский государственный университет) -
289
Модуляция парциальных амплитуд в дифференциальных сечениях упруго рассеянных альфа-частиц и протонов на экзотических легких ядрах
В настоящее время широко изучаются кластерные модели для описания структуры легких [1-3], средних и экзотических ядер [4]. Подобные модели позволяют объяснить неравномерное радиальное распределение плотности ядерной материи, что может наблюдаться в виде больших среднеквадратичных радиусов. Такие аномалии показывают на наличие гало в ядрах [5] или их «рыхлости». Описание дифференциального сечения кластерной структуры атомных ядер в рамках борновского приближения было предложено в [6], а роль кластерных конфигураций в атомных ядрах исследовалась, в том числе, в работе [7]. Определение среднеквадратичного радиуса ядра, и если это значение выходит за рамки классических представлений, то это позволяет делать выводы о дальнейшем изучении исследуемых ядер и возможной ярко выраженной различной кластерной конфигурацией этих ядер. Одним из методов экспериментального обнаружения мультикластерной структуры в работах [8-11] авторами было приведены результаты расчетов упругого рассеяния альфа-частиц на 4N и 4N±1 ядрах.
В настоящей работе был выполнен расчет по методу разложения амплитуды упругого рассеяния [12] протонов и альфа-частиц на экзотических легких ядрах (6He, 8He, 11Li). Экспериментальные данные взяты из реакций 6He(a,a)6He; 8He(p,p)8He; 11Li(p,p)11Li [13]. В результате расчетов были получены радиусы и относительная вероятность каждой моды (парциальной амплитуды) входящей в амплитуду рассеяния исследуемых реакций упругого рассеяния. Изучаемые в настоящей работе экзотические легкие ядра обладают нейтронным гало, что выражается в аномально больших радиусах. Полученные, в настоящей работе, радиусы обладают завышенными значениями, что хорошо согласуется с результатами значений радиусов других авторов. Также получены вклады кластерных структур данных ядер. Так, например, в представлении 11Li->9Li+2n, расчетные значения показывают, что эти структуры ярко выражены и вносят существенный вклад в полную амплитуду рассеяния.- M.A. Zhusupov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Physics. 84(10) 1382-1385 (2020).
- A.A. Kasparov et al., Phys. of el. part. and at. nucl. 50(5) 708-712 (2019).
- Yu.E. Penionzhkevich, Nuclear physics 82(3) 208-217 (2019).
- Yu.E. Penionzhkevich and R.G. Kalpakchieva, JINR 383 (2016).
- A.A. Ogloblin, Proc. Intern. Conf. on Nuclei, Foros. World Sci. 36 (1991).
- R.H. Helm, Phys Rev. 104(5) 1466 (1956).
- K.A. Gridnev et al., Int. J. Mod. Phys. E 11 (2002).
- K.A. Gridnev et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Physics. 78(7) 640 (2014).
- K.A. Gridnev et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Physics. 79(7) 856 (2015).
- V.V. Dyachkov et al., Rec.Contr.Phys. 4(55) 80-84 (2015).
- V.V. Dyachkov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Physics. 81(10) 1174 (2017).
- V.V. Dyachkov et al., Physics of Atomic Nuclei. 83(12) 1705 (2020).
- Experimental Nuclear Reaction Data // https://www-nds.iaea.org/exfor/
Speaker: Вячеслав Дьячков (Воронежский государственный университет) -
290
Обновленные данные по выходам фотоядерных реакций на ядрах висмута, с множественностью 2-7 нейтронов.
Образцы особо чистого висмута были облучены на электронном ускорителе ЛИНАК-200 [1] с энергией пучка 35-70 МэВ гамма квантами тормозного излучения от вольфрамового конвертера.
Были измерены выходы фотоядерных реакций с множественностью от двух до семи нейтронов. По сравнению с предыдущей работой [2] в этой работе на характерный диапазон изменения парциального сечения каждой фотоядерной реакции приходится больше значимых точек измеренного выхода. Результаты измерений представлены как в виде относительных выходов реакций, так и в виде сечений, усредненных по потоку.
В процессе обработки данных было выявлено несоответствие заявленной энергии выведенного электронного пучка фактической. Характеристика выводящего магнита была уточнена как с помощью источников альфа-частиц с известной энергией, так и по данным откалиброванного сцинтилляционного детектора при работе ускорителя в одноэлектронном режиме.
Представленные в работе [2] расчеты парциальных сечений фотоядерных реакций на висмуте были взяты с разными весами отдельно по квазидейтронной компоненте и по гигантскому дипольному резонансу. Экспериментальные относительные выходы были аппроксимированы взвешенной суммой ГДР и КД спектров, полученный результат предполагает увеличение вклада квазидейтронной компоненты сечений.
[1] A.Trifonov et al., PoS ICHEP2022, 1094
[2] M.Demichev et al., Phys. Atom. Nucl. 85 (2022) no.6, 805-812Speaker: Mikhail Demichev (JINR) -
291
Расчет собственных значений и собственных функций гамильтониана БКШ при точном сохранении числа частиц
Для определения собственных функция и собственных значений гамильтониана модели БКШ с точным сохранением числа частиц $N$
$$\quad \hat{H}_{BCS} = \sum_t (\varepsilon_t - \mu) \hat{N}_t - G \sum_{t,p} A_t^\dagger A_p,$$ где $$\quad \hat{N}_t = a_t^\dagger a_t + a_{\bar{t}}^\dagger a_{\bar{t}}, \quad A_t^\dagger = a_t^\dagger a_{\bar{t}}^\dagger, \quad A_p = a_{\bar{p}} a_p,$$ $\quad a_t^\dagger \left( a_t \right)$ – фермионные операторы рождения (уничтожения); $t(p)$ – совокупность одночастичных квантовых чисел, состояние $\bar{t}$ сопряжено по времени к состоянию $t$, $\varepsilon_t $ – одночастичные энергии, $\mu$ – уровень отсчета энергий, разработан программный пакет, отличающийся: 1) методом построения изоморфизма между однокомпонентными индексами, нумерующими строки и столбцы в диагонализуемых матрицах, и одночастичными состояниями каждого одночастичного уровня, характеризуемого определенным сениорити и количеством частиц на данном уровне; 2) гибкостью метода диагонализации, позволяющего выбирать наиболее быстродействующий метод диагонализации, соответствующий специфическим особенностям задачи. Например, наибольшая эффективность при работе с получаемыми матрицами больших порядков отмечается для метода Ланцоша и его модификаций. Однако, в случаях, когда не выполняются критерии устойчивости метода, либо для матриц сравнительно малых порядков предпочтительным оказывается выбор других методов диагонализации; 3) использованием для матриц наибольших порядков (более $10^4 ×10^4$) интерактивных подходов к алгоритмам, подразумевающих предварительную факторизацию матриц до применения вычислительных методов.
Для реализации вычислительных методов и повышения производительности в программном комплексе, разработанном на С++, использованы последние версии современных библиотек линейной алгебры (Eigen 3, Armadillo), применены технологии параллельного и распределённого программирования. Произведены программный анализ и оптимизация кода средствами MS Visual Studio и расширений.
В результате существенно повышены скорость расчета собственных функций и собственных состояний рассматриваемого гамильтониана для многоуровневых задач.Ключевые слова: Гамильтониан БКШ, точное сохранение числа частиц, метод диагонализации
Список использованных источников
1. Лунёв А.В., Михайлов В.М., Власников А.К., Изв. РАН. Сер. физ. 79, 997 (2015).Speaker: Александр Власников (Санкт-Петербургский государственный университет) -
292
Регистрация быстрых нейтронов сцинтилляционными детекторами в магнитном поле ускорителя гелис
Задача регистрации быстрых нейтронов в присутствии фонового гамма-излучения успешно решается с помощью сцинтилляционных детекторов со специальными органическими сцинтилляторами. Однако при работе сцинтилляционных детекторов около ускорителей частиц возникает проблема, связанная с наличием магнитного поля вблизи ускорителя.
В данной работе представлены результаты изучения воздействия магнитного поля ускорительной установки ГЕЛИС на работу сцинтилляционных детекторов, входящих в детекторный комплекс ускорителя ГЕЛИС (Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва). На ионном ускорителе ГЕЛИС ведутся работы по изучению ядерных реакций с участием легких ионов в кристаллических структурах. Представлены результаты исследования влияния магнитного поля на параметры сигналов сцинтилляционных детекторов и на эффективность разделения сигналов от нейтронов, рождающихся в изучаемых ядерных реакциях, и фоновых гамма-квантов. Использованные на ускорителе ГЕЛИС сцинтилляционные детекторы содержат монокристаллы из паратерфенила и ФЭУ Hamamatsu R6094. Сигналы с выходов ФЭУ оцифровываются с помощью быстрого АЦП CAEN DT5730.
Источники гамма-квантов Cs-137 и Co-60 применялись для энергетической калибровки сцинтилляционных детекторов и для исследования изменения амплитуды и формы сигналов детекторов при разном расположении динодной системы ФЭУ относительно магнитного поля. Наличие магнитного поля приводит к уменьшению амплитуды сигналов и искажению их формы.
С использованием источника нейтронов Cf-252 исследована зависимость эффективности разделения сигналов от нейтронов и гамма-квантов от величины магнитного поля. В отсутствии магнитного поля коэффициент эффективности разделения сигналов Figure of Merit равен FOM=1.6. При значении магнитного поля 0.5 мТл эффективность разделения сигналов от нейтронов и гамма-квантов (детекторы без магнитного экрана) уменьшается до FOM=1, а при поле ≈ 1 мТл становится невозможным разделить сигналы.
Применение ФЭУ с комбинированными магнитными экранами позволяет регистрировать нейтроны без ухудшения эффективности разделения сигналов в магнитных полях до 5 мТл. В месте расположения сцинтилляционных детекторов на ускорителе ГЕЛИС магнитное поле составляет до 2 мТл. Продемонстрировано, что сцинтилляционные детекторы с комбинированными магнитными экранами эффективно регистрирует быстрые нейтроны на ускорительной установке ГЕЛИС.Speaker: Михаил Кирсанов (НИЯУ МИФИ) -
293
Сечения образования продуктов деления и изотопов тория и протактиния при облучении 232Th протонами с энергией 20.9 МэВ
С использованием активационной методики, без химической сепарации, выполнены измерения 123-х значений сечений продуктов деления в диапазоне масс от 72Zn до 151Pm (111 изотопов 32-х различных химических элементов (Zn, Ga, Ge, As, Br, Se, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Pm), а также сечения образования 231Th и 232,230Pa.
Облучения проводились на стенде НС-20М, на базе линейного ускорителя протонов И-2, в течении 1 часа и 1 мин. Плотность потока протонов, определялась с использованием данных мониторных реакций natCu(p,x)62Zn и natCu(p,x)63Zn.
Полученные экспериментальные данные, промоделированы с использованием программ PHITS-3.31 (модели INCL, JAM, Bertini) с библиотекой JENDL-5 и GEF2025v2. Расчетные данные 232Th(p,x) реакций получены в диапазоне 0.01 – 3 ГэВ для 38 значений энергии. Для энергии протонов 20.9 МэВ и энергий 100, 200, 800, 1200 и 1600 МэВ ( наши более ранние результаты, полученные в 2000 г.), с использованием авторских программ проведены расчеты кумулятивных цепочек для 72<A<151 и, соответственно, расчеты значений кумулятивных сечений. Полученные результаты, вместе с результатами других авторов также представлены и в виде функций возбуждения всех продуктов реакций и массовых кривых продуктов деления.
Показано, что нейтронный канал образования 233Pa является превалирующим во всем диапазоне энергий 20.9 – 1600 МэВ.
Для продуктов деления проведено сравнение расчетных и экспериментальных результатов с использованием статистических критериев ¯F, Δ¯F и <F> и определена предсказательная способность каждой модели программы PHITS-3.31.Speaker: Роман Тихонов -
294
Фотоядерные реакции с вылетом протонов на изотопах эрбия
Изучение фотоядерных реакций на редкоземельных элементах имеет фундаментальное значение для более полного понимания структуры ядра. Кроме того, подобные исследования имеют важный прикладной аспект – из-за своих физико-химических свойств эти металлы обладают большим потенциалом для применения в таргетной радионуклидной терапии, позволяющей доставлять источник ионизирующих излучений непосредственно к пораженным тканям, минимизируя при этом воздействие на здоровые органы.
Нами проведены исследования выхода перспективного медицинского изотопа 166Ho при облучении мишеней естественного эрбия тормозным излучением с граничной энергией 23 МэВ. Наведенная активность в облученных мишенях исследовалась на полупроводниковых спектрометрах с детекторами из сверхчистого германия в условиях низкофоновой лаборатории. Наличие активности 166Ho в измеренных γ-спектрах надежно установлена не только по характерному γ-переходу 80.6 кэВ, но и по периоду полураспада. С учетом того, что 166Ho из природного эрбия образуется в (γ, p) и (γ, pn)-реакциях, было оценено эффективное средневзвешенное по потоку тормозного излучения сечение σэфф=40±10 мкбн. Проводится обсуждение полученных данных. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 25-22-20051).Speaker: Илья Лебедев (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) -
295
Частица–$\gamma$-корреляции и угловое распределение $\gamma$-квантов в реакциях с легкими частицами на $^{12}$C
Функция угловой корреляции конечной частицы y и $\gamma$-кванта использована для анализа $\gamma$-излучения, снимающего возбуждение образованного в реакции $A(x, y)B^{*}$ конечного ядра. Показано, что угловое распределение (УР) $\gamma$-излучения определяется усредненным по углам вылета частицы у спин-тензорам $A_{k0}$ матрицы плотности образованного в реакции ядра В*.
В неупругом рассеянии дейтронов с энергией 15.3 МэВ на ядре $^{12}$С УР получены при использовании экспериментальных и расчетных значений спин-тензоров матрицы плотности ядра $^{12}$C(2$^{+}$), определенных нами в [1]. Расчетное УР совпадает с экспериментальным при выборе углового диапазона усреднения рассеянных дейтронов, соответствующего экспериментальному.
В неупругом рассеянии нейтронов с энергией 14.1 МэВ экспериментальное УР $\gamma$-квантов [2] сопоставлено с рассчитанным на основе спин-тензоров $A_{k0}$ с k = 2, 4, определенных в методе связанных каналов (код FRESCO [3]). Коэффициенты связи каналов в ядре $^{12}$С и параметры оптических потенциалов при расчете определены из соответствия экспериментальных и расчетных дифференциальных сечений неупругого рассеяния нейтронов в рамках этого же метода. Нормированное на $A_{00}$ УР $\gamma$-квантов согласуется с экспериментальным [2]. Показано, что анизотропия $\gamma$-излучения в неупругом рассеянии нейтронов почти в 1.5 раза превышает свой аналог в рассеянии дейтронов.- L.I. Galanina, N.S. Zelenskaya, V.M. Lebedev, et al., Phys. Atom. Nucl. 70, 1 (2007).
- D. N. Grozdanov, N. A. Fedorov, V. M. Bystritskiy, et al., Phys. Atom. Nucl. 81, 588 (2018).
- J. Thompson, Comp. Phys. Rep. 7, 167 (1988); http:// www.fresco.org.uk.
Speaker: Наталья Зеленская (МГУ, НИИЯФ имени Д.В.Скобельцына) -
296
Эксперимент по определению спектра энергии возбуждения ядра $^{6}\text{He}$ в реакции $n+^{7}\text{Li}$
На нейтронном канале РАДЭКС ИЯИ РАН на созданной установке для исследования свойств высоко возбужденных состояний легких ядер [1] проведен эксперимент по определению спектра энергии возбуждения ядра $^{6}\text{He}$ в реакции $n+^{7}\text{Li}→d+^{6}\text{He}^{*}→d+t+t$. В эксперименте, проведенном при энергии нейтронов 40-60 МэВ, регистрировались в совпадении вторичные дейтроны и тритоны. Энергия и угол вылета не детектируемой частицы ($t$), а также энергия первичных нейтронов, вызвавших реакцию, восстанавливались из законов сохранения энергии и импульса. В работе представлены первые результаты по определению спектра энергии возбуждения $E_{x}(^{6}\text{He})$, полученного по углам вылета и энергиям продуктов развала высоко возбужденных состояний $^{6}\text{He}^{*}$.
Исследование выполнено в рамках научной программы Национального центра физики и математики, направление № 6 «Ядерная и радиационная физика».- M.V. Mordovskoy et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 88, S135 (2024).
Speaker: Михаил Мордовской (ИЯИ РАН)
-
266
-
-
-
0. Plenary Лекторий Института Истории (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Лекторий Института Истории
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Plenary
Convener: Олег Валерьевич Белов (Объединенный институт ядерных исследований)-
297
Model of experiments and a method of analysis of data for determination of absorbed dose of samples for applied research at the NICA facility
Model of experiments for applied research at the NICA facility are developed and manufactured. Model includes two ionization chambers IK-1, IK-2, strip and phosphor chambers for measure profile with coordinate and intensity of beam and various sample holders with different geometry. At those chambers, the materials of electrodes are used different, at the IK-1 it is foil-clad fiberglass, for the IK-2 are taken foil-clad polyimide One of the ionization chambers will be assembled before irradiated samples, other mounted after. The strip chamber will be added for measure the coordinate of beam or it will replace the IK-2 ionization chambers. By the phosphor chambers will be tracked and follow the profile of beam. The chambers IK-1 and IK-2 have been tested on a $^{60}$Co gamma source and a 150 MeV proton beam at the accelerator “Prometheus” at the Tsyba MRRC (Obninsk).
A method for analysis of the intensity and profile data by using the 3.8 GeV/nucleon ${^{124}\mathrm{Xe}^{54+}}$ ion beam data is developed. The method is necessary to provide the precise determination of the fluence and absorbed dose for irradiated materials. The beam profile and intensity distributions together with overall intensity and duration of radiation exposure are used for the developing the method of analyzed for the set of samples of different geometry and chemical composition. The analyzed raw data were taken in the long-term exposure mode. Software was developed for investigation of intensity and profile of the beam. Because the data is a sequence of intensity values per short run, each run will be analyzed separately. The intensity will be measured before collision with the target for what were require additional study on how the intensity decreases after passing through each detector and approximation of the intensity, which reaches a particular sample. Distributions of beam intensity and profile versus exact duration of irradiation will be obtained for each investigated sample. Each sample will be at the beam sequentially in series that results in individual profile for particular sample. The distributions will be obtained by the developed software for the input data and further precise calculation of energy losses and absorbed dose in irradiated materials. Those several different parameters necessary to investigate and explore, the uncertainty is under study.
The study is performed within the ARIADNA Collaboration.Speaker: Nelli Efimovna Pukhaeva (JINR; North-Ossetian State University, Russia) -
298
Photonuclear reactions: results, problems and new data
Cross sections of partial photoneutron reactions $(\gamma,1n)$, $(\gamma,2n)$, and $(\gamma,3n)$, as well as of total reactions $\sigma(\gamma,sn) = \sigma(\gamma,1n) + \sigma(\gamma,2n) + \sigma(\gamma,3n)$ and those of photoneutron yields $\sigma(\gamma,xn) = \sigma(\gamma,1n) + 2\sigma(\gamma,2n) + 3\sigma(\gamma,3n)$ collected in the international nuclear reaction database [1] are widely used in nuclear physics basic research to study various features of electromagnetic interactions and resulted in founding collective states in atomic nuclei, obtaining various giant resonances, first of all Giant Dipole Resonance (GDR) [2, 3]. Various characteristics of those resonances such as energy position, absolute value, integrated cross section and moments, parameters of GDR configurational and isospin splitting, and others, were determined [2, 3]. Total accuracy of those quantities is arbitrarily low because the results of different photonuclear experiments are significantly different both in shape and absolute value. Disagreements about 100 percents (in many cases larger) are known and are definitely systematic for partial reactions [4, 5]. Using digital cross-section data from the database [1] and experimental-theoretical method for evaluation partial reaction cross sections meeting objective physical criteria of reliability [5] it was shown that for about 70 nuclei from $^{51}$V to $^{209}$Bi obtained using beams of quasimonoenergetic annihilation photons and bremsstrahlung many experimental cross sections under discussion are not reliable because contain significant systematic uncertainties of various types due to discrepancies in methods of neutron multiplicity identification and characteristics of $\gamma$-quanta sources, neutron detectors and devices for $\gamma$-quanta beam monitoring [4]. The data disagreements are systematized, the reasons of those are analyzed, new reliable cross sections of partial and total reactions are presented.
- IAEA Nuclear Data Секция database “EXFOR. Experimental nuclear reaction data”, http://www-nds.iaea.org/exfor.
- B.L. Berman et al., Rev. Mod. Phys. 47, 713 (1975).
- B.S. Ishkhanov et al., Interaction of electromagnetic radiation with atomic nuclei. Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, Moscow, Russia. 1979.
- V.V. Varlamov et al., Atom. Data and Nucl. Data Tables, 161, 101697 (2025).
- V.V. Varlamov et al., Bull. Rus. Acad. Sci. Phys., 87, 1188 (2023).
Speaker: Vladimir Vasilievich Varlamov (Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University) -
299
Superlight systems 4n, 6H, 7H: theory vs. expeiriment
On behalf of ACCULINNA collaboration.
The novel results concerning quite “problematic” lightest neutron-rich systems $^4$n [1], $^6$H [2], and $^7$H [3,4] were obtained at ACCULINNA-2 facility (FLNR, JINR, Russia) in the recent years. These experiments provide evidence for very low-energy structures in the spectrum of $^7$H (~2.2 and ~5.5 MeV) and $^4$n (~3.2-3.5 MeV). The latter observation is consistent within experimental uncertainly with the recent observation [5] of the low-energy “resonance-like structure” in the spectrum of $^4$n at ~2.4 MeV.
The existing experimental data on $^4$n, $^6$H, and $^7$H systems is highly controversial and also very complicated to reconsile with theoretical predictions [6,7,8]. We discuss the studies of the $^8$He and $^7$H in a five-body core+4n and of $^4$n in four-body hyperspherical model calculations [1] and their relevance to experimental observations. Some problematic issues about interpretation the data may be resolved in extreme-peripheral reaction scenarious.
The prospects of further experimental studies of $^4$n, $^6$H, and $^7$H systems and requirements to these experiments are discussed. Among other opportunities here we should note the possibility to search for long-living $^7$H states (with width less than something like 1 MeV) in the products of triple fission of heavy nuclei [9].
[1] I.A. Muzalevskii et al., Phys. Rev. C 111 (2025) 014612.
[2] E.Yu. Nikolskii et al., Phys. Rev. C 105 (2022) 064605.
[3] A.A. Bezbakh et al., Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 022502.
[4] I.A. Muzalevskii et al., Phys. Rev. C 103 (2021) 044313.
[5] M. Duer et al., Nature 606 (2022) 678.
[6] F. M. Marques and J. Carbonell, The European Physical Journal A 57 (2021) 105.
[7] E. Hiyama, R. Lazauskas, J. Carbonell, Phys. Lett. B 833 (2022) 137367.
[8] H.H. Li, J.G. Li, N. Michel, and W. Zuo, Phys. Rev. C 104 (2021) L061306.
[9] Yu.L. Parfenova et al., in preparation (2025).Speaker: Leonid Valentinovich Grigorenko (FLNR, JINR, Dubna, Russia) -
300
Источник комптоновского излучения НЦФМ: параметры и перспективы исследований.
Представлены характеристики проектируемого в национальном центре физики и математики источника комптоновского излучения гамма-квантов [1]. Предлагаемый источник обладает уникальными характеристиками по интенсивности и энергетическому разбросу гамма-излучения. Это позволит проводить исследования в области фотоядерных реакций и структуры ядра, недоступные на источниках предыдущего поколения. Представлены первоочередные эксперименты:
-
Получение новых непротиворечивых прецизионных данных о сечениях фотоядерных реакций и фотоделения в широкой области масс атомных ядер. Эти данные необходимы как для улучшения модельных и теоретических подходов к описанию фотоядерных реакций, так и для решения широкого круга прикладных задач, таких как: разработка систем трансмутации ядерных отходов, создания пучков радиоактивных ядер, получения экзотических ядер (высокоспиновых изомеров, сильнонейтроноизбыточных ядер, сильнодеформированных ядер), задач наработки перспективных медицинских радионуклидов;
-
Изучение фотоядерных реакций в области порога, необходимые, прежде всего, для ответа на вопрос о механизмах образования обойденных ядер в фотоядерных реакциях в процессе звездного нуклеосинтеза;
-
Исследование структурных особенностей и возбужденных состояний атомных ядер;
-
Изучение структурных особенностей дипольных состояний, таких как гросс-, промежуточная и тонкая структура, включая тонкую структуру пигми–дипольного резонанса, и альфа-кластерные состояния. Изучение особенностей гигантского дипольного резонанса, таких как изоспиновое, деформационное и конфигурационное расщепление.
Представлены возможные детекторные станции и методики для проведения таких экспериментов.
Выполнение настоящей работы было поддержано в рамках проекта Национального центра физики и математики (НЦФМ) № 6 «Ядерная и радиационная физика», направление 6.5.1.
[1] Л.В. Григоренко и др. // Физмат. Т.1, №3-4. С.123–254 (2024)
Speaker: Александр Александрович Кузнецов (Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, МГУ, Москва, Россия; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия) -
-
297
-
11:00
кофе-брейк
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Вячеслав Дьячков (Воронежский государственный университет)-
301
Experimental studies of $^{10}$B($^7$Li, $^6$Li)$^{11}$B and $^{10}$B($^7$Li, $^6$He)$^{11}$C reactions
The angular distributions of $^7$Li$_{g.s.}$, and $^6$He$_{g.s.}$, $^6$Li$_{g.s.}$, $^6$Li$_{3.56}$ reaction products of one-nucleon transfer in $^7$Li+$^{10}$B interaction were measured at $E_{7Li}$=58 MeV of U-400 @ FLNR JINR, Dubna. One of the aim of our studies was to compare the spatial dimension parameters of A=6 isobar triplet nuclei obtained in the direct one-step n , p-transfer reactions. The $^6$Li$^*_{3.56}$ is the IAS of $^6$He$_{g.s.}$. The angular distributions of $^{10}$B($^7$Li,$^6$He)$^{11}$C, $^{10}$B($^7$Li,$^6$Li)$^{11}$B and $^{10}$B($^7$Li,$^6$Li$^*_{3.56}$)$^{11}$B were measured under the same experiment for the first time. The analysis to derive the angular distributions was performed by using the finite-range coupled reaction channel approach. To microscopically derive the angular distributions concerning the 1$n$- and 1$p$- transfer processes some ingredients were needed, such as optical potential and spectroscopic amplitudes. For the optical potential in each partition the double- folding São Paulo potential [1,2] was used in both real and imaginary parts. Couplings with the first excited states of the projectile and target nuclei were explicitly included in the coupled equations scheme. The 1$n$- and 1$p$- spectroscopic amplitudes used in the single particle states were determined by shell model calculations, using the NuSHellX code [3].
Fig.1 shows the coupled scheme used in the one-nucleon transfer reactions calculation. A good agreement between theory and experiment was obtained for the elastic scattering and the transfer to the $^6$Li$_{g.s.}$(1$^+$) + $^{11}$B$_{g.s.}$(3/2$^-$) channel. On the other hand, the theory overestimates the data of one-neutron transfer populating the $^6$Li$^*_{3.56}$ (0$^+$) + $^{11}$B$_{g.s.}$(3/2$^-$). The same thing occurring with one-proton transfer populating the $^6$He$_{g.s.}$(0$^+$) + $^{11}$C$_{g.s.}$(3/2$^-$) channel. The reason is that the CRC calculations did not account for the breakup process of the $^6$Li and when it is left in its 0$^+$ excited state or the breakup effect on the ground state of the $^6$He nucleus. To show the relevance of the breakup process on the $^6$Li$_{3.56}$(0$^+$) excited state, we include the coupling between the g.s. and the 0$^+$ (3.56 MeV) from the single particle excitation approach as used in the CDCC calculation. So, a bin-state was set to describe the scattering between the $^4$He$_{g.s.}$ and the $p$-$n$ system inside the $^6$Li. To properly include this configuration, the $p$-$n$ valence particles were considered with spin $j$=0. The theoretical analysis when the breakup process of the $^6$Li$_{3.56}$(0$^+$) excited state is included in the CRC calculation gives a good description of the measured $^6$Li$_{3.56}$(0$^+$) + $^{11}$B$_{g.s.}$(3/2$^-$) channel. This research was funded by the Russian Science Foundation, project No. 24-22-00117. Brazilian authors were supported by CNP, FAPERJ, CAPES, and INCT-FNA (research project No. 464898/2014-5).
[1] L.C. Chamon, D. Pereira, M.S. Hussein, M.A. Cândido Ribeiro, D. Galetti, Phys. Rev. Lett. 79, 5218 (1997).
[2] L. C. Chamon, B. V. Carlson, L. R. Gasques, D. Pereira, C. De Conti, M. A. G. Alvarez, M. S. Hussein, M. A. Cândido Ribeiro, E. S. Rossi, and C. P. Silva, Phys. Rev. C 66, 014610 (2002).
[3] NuShellX. www.garsington.eclipse.co.ukSpeaker: Yuri Sobolev (JINR) -
302
Study of the $^{11}$B nucleus states in the transfer reaction $^{10}$B($^{7}$Li, $^{6}$Li)$^{11}$B
One of the most striking examples of a nuclear cluster structure consisting of three weakly interacting α-particles is the second excited 0$^{+}$ state of the $^{12}$C nucleus at excitation energy of 7.65 MeV (the Hoyle state). The properties of the Hoyle state can serve as arguments supporting the theory of α-particle condensate in nuclei [1].
In our work on the analysis of α-particle scattering on the $^{11}$B nucleus [2], it was shown that the 3/2$^{-}$ 8.56 MeV state is an analog of the Hoyle state and has an increased radius, similar to that of the Hoyle state in $^{12}$C.
A new experiment was performed using a $^{7}$Li ion beam from the U-400 accelerator at the FLNR JINR (Dubna) at the energy of 58 MeV. Angular distributions were obtained for the reaction $^{10}$B($^{7}$Li, $^{6}$Li)$^{11}$B for the ground state and the 8.56 MeV excited state of the $^{11}$B nucleus.
The experimental data were analyzed within the optical model and the distorted wave Born approximation (DWBA). The radial dependences of the form factors and the ANC (asymptotic normalization coefficient) values for the studied states were obtained. The ANC values for the ground state of $^{11}$B consistent with literature data. For the 8.56 MeV state, the results were obtained for the first time. A comparison of the radial dependences of the form factors shows that the wave function of the $^{11}$B nucleus in the excited $^{11}$B (8.56 MeV) state has an increased spatial size compared to the ground state, which may indicate an enlarged radius of this state.- А. Tohsaki, H. Horiuchi, P. Schuck, and G. Rőpke, Phys. Rev. Lett. 87, 192501 (2001).
- A. N. Danilov, A. S. Demyanova, S. V. Dmitriev [et al.] // Nuclear physics. – 2015. – V. 78, № 9. – P. 828.
Speaker: Semyon Raidun (NRC Kurchatov Institute) -
303
Search for exotic structures in $^{11}$C
The $^{11}$C nucleus is a proton-rich, unstable isotope with intriguing exotic features. Unlike its neutron-rich isobar-analogue nucleus $^{11}$Be with pronounced neutron halo, $^{11}$C doesn’t form a strong proton halo due to Coulomb suppression.
$^{11}$C and $^{11}$B are the mirror nuclei. Based on calculations of the antisymmetrized molecular dynamics (AMD), the generator coordinate method, and the orthogonality condition model, the 3/2$^{-}_{3}$ states in $^{11}$C ($^{11}$B) were suggested to be 2$α$ +$^3$He(t) cluster states, which are analogous to the Hoyle state and have increased radii correspondingly.
One of last experiments on a resonance reaction $^{12}$C($^{11}$C,α$^{7}$Be) [1] has shown that the 8.10-MeV state in $^{11}$C is a resonance, is a head of the K$^{\pi}$ = 3/2$^−$ rotational band and probably has a three-center (2$α$ + $^{3}$He) cluster structure, similar to the 8.56-MeV state in $^{11}$B. While authors [1] mentioned that the obtained low statistics prevent drawing any strong conclusions.
In order to try to solve open questions regarding excited states of $^{11}$C, we made our own experiment $^{10}$B($^{7}$Li,$^{6}$He)$^{11}$C. Experiment was done using $^{7}$Li beam (E$_{LAB}$ = 58 MeV) U-400 of cyclotron @ FLNR JINR, Dubna. Angular distributions were measured for the g.s. and the 8.1 MeV states of $^{11}$C. DWBA analysis was done for the new experimental data. Radial dependences of the form-factor were obtained.- Ziming Li et al., Phys. Rev. C 107, 014320 (2023)
Speaker: Alla Demyanova (NRC "Kurchatov Institute") -
304
Образование динейтрона в реакции поглощения остановившихся пионов $^{9}$Be($\pi^{-}$,t $^{4}$He)$^{2}$n
Образование динейтрона $^{2}$n исследовалось в реакции поглощения остановившихся пионов ядрами $^{9}$Be($\pi^{-}$,t $^{4}$He)$^{2}$n. Измерения были выполнены с помощью двухплечевого многослойного полупроводникового спектрометра. В спектре недостающих масс исследуемой реакции вблизи порога наблюдался пик, обусловленный образованием s-волнового виртуального состояния динейтрона. Указаний на образование высоковозбужденных состояний в системе двух нейтронов не было найдено. Анализ диаграммы Далица показал, что доминирующим механизмом образования динейтрона является двух-частичное поглощение $\pi^{-} $+ $^{9}$Be $\rightarrow$ t + $^{6}$He$^{\ast}$ с последующим распадом возбужденного состояния изотопа гелия $^{6}$He$^{\ast}$ $\rightarrow$ $^{2}$n + $^{4}$He.
Speaker: Борис Чернышев (Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ") -
305
Investigation of the 2.26-MeV excited state of $^{8}$Li
Study of exotic nuclei is one of the main directions of modern nuclear physics. The most famous representative of exotic nuclei is halo.
The nucleus $^8$Li is a compelling candidate for studying halo formation. Various theoretical approaches have been applied to study its structure. Despite this, significant ambiguities remain due to limited experimental constraints. Some methods reproduce the radius or quadrupole moment of $^8$Li accurately but fail to describe both $^8$Li and its mirror nucleus – $^8$B simultaneously. Several research groups have attempted to determine the structure of $^8$Li directly by deducing its matter radius or density distribution through cross section measurements. One study indicated that there is no halo in $^8$Li [1], while another found that $^8$Li exhibits a skin-like structure [2], contrasting with its mirror nucleus $^8$B. Consequently, the structure of the $^8$Li nucleus remains unclear, particularly for its excited states. The most promising candidate for a possible exotic structure is the 2.26-MeV excited state of $^8$Li which is located 200 keV above neutron emission threshold.
To analyze the possibility of exotic structure in the 2.26-MeV excited state of $^8$Li we used independently two different methods – MDM (Modified diffraction model) and DWBA. We applied MDM to existing literature data on d+$^8$Li and $^8$Li+$^{12}$C scattering and obtained radii of low-lying excited states of $^8$Li. Radii of the excited states are practically similar as for the g.s. except radius of the 2.26-MeV state which is significantly increased. Independently, DWBA was applied to new experimental data $^7$Li(d,p)$^8$Li [3]. The 2.26 MeV state is considered as a single-particle quasi-stationary state. It was shown that the wave function of the 2.26 MeV state is very similar to a system with a neutron halo. Both results of the MDM and DWBA analysis are arguments in favor of neutron halo in the 2.26 MeV state of the $^8$Li nucleus.- G.W. Fan et al., Phys. Rev. C 90, 044321 (2014)
- A. Dobrovolsky et al., Nucl. Phys. A 766, 1–24 (2006)
- N. Burtebayev et al., to be published
Speaker: Andrey Danilov (NRC "Kurchatov Institute")
-
301
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Владимир Варламов (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова)-
306
Recent developments in Geant4 pre-compound and deexcitation modules
The Geant4 [1-3] low energy nuclear models are used to simulate final states in hadron- and ion-induced inelastic collisions with nuclei in high and moderate energy generators. The pre-compound model [4] ensures a seamless transition from the kinetic reaction stage (governed by high energy inelastic interaction) to the equilibrium phase (described by statistical deexcitation models). The deexcitation models [5] are responsible for sampling of the final state.
This contribution presents recent developments in the Geant4 pre-compound and de-excitation modules. These processes have a significant impact on hadronic shower development, energy deposition profiles, and the performance of hadronic calorimeters. Presented results are based on the recent Geant4 public release 11.3 and new developments for future release 11.4.
- J. Allison et al., Nucl. Instrum. Meth. A 835, 186-225 (2016).
- J. Allison et al., IEEE Trans. Nucl. Sci. 53, 270-278 (2006).
- S. Agostinelli et al., Nucl. Instrum. Meth. A 506, 250-303 (2003).
- K.K. Gudima et al., Nucl. Phys. A 401, 329-361 (1983).
- I. Dostrovsky et al., Phys. Rev. 116(3), 683-702 (1959).
Speaker: Nikita Andreevich Chalyi (Tomsk State University) -
307
Recent experimental results on pre-compound emission reactions at low energies
The recent experimental results on the excitation function measurements for light particle emission in several target nuclei of mass region A=159-185 with heavy ion (HI) beams (12C, 14N,16O, and 19F) at low energy below 5 MeV/nucleon are found in disagreement with the compound theory-based statistical models. This discrepancy between experimental data and statistical model predictions led to the identification of the pre-compound (PCN) emission process in such reactions. The PCN emission is well recognised as an intermediate mechanism bridging the compound and direct reactions in light ion (proton, deuteron and alpha) induced reactions at higher energies. The observation of direct reaction mechanism with 12C, 14N,16O and 19F beams is scarce due to the dominance of the breakup fusion (BUF) process at these energies.
Thus, the investigation of PCN emission in HI reactions is interesting at energies where the compound nucleus mechanism dominates [1]. It is because of the fact that the extensive measurements of the excitation functions for production residues carried out at the Variable Energy Cyclotron Centre (VECC), Kolkata, India with alpha-beam across a broad mass region A=59 and 187 [2-6] have attracted attention recently in establishing PCN emission as a premier reaction dynamics. The results of recent investigations with alpha particle beams have achieved three key milestones in PCN emission; (i) the development of mass-number dependence systematics for target nuclei (A=59−187) [7], (ii) exploration of the target deformation effects [8], and (iii) significance of the shell structure [8].
To achieve these milestones in HI reactions, the experiments have been conducted at the Inter-University Accelerator Centre, New Delhi, India, to measure the recoil range distributions (RRDs) and spin distributions (SDs) of a large number of residues produced in various target nuclei [9]. Analysis of the RRD and SD data revealed two distinct de-excitation patterns corresponding to the PCN and CN processes, providing valuable insights into the low-energy reaction dynamics of HI collisions. Nevertheless, the evidence of PCN emission at low energies (4–7 MeV/nucleon) highlights the crucial role of angular momentum, which is well explained by the measurements of isomeric cross-section ratio, establishing a huge PCN emission from the metastable state as compared to the ground state. Further details of these measurements will be presented.References:
1. Manoj Kumar Sharma et. al., Phys. Rev. C 91, 014603 (2015).
2. Manoj Kumar Sharma et al., Eur. Phys. J. A 31, 43 (2007).
3. Manoj Kumar Sharma et al., Eur. Phys. J. A 54, 205 (2018)
4. Manoj Kumar Sharma et al., Phys. Rev. C 98, 054607 (2018)
5. Manoj Kumar Sharma et al., Phys. Rev. C 99, 014608 (2019).
6. Manoj Kumar Sharma et al., Eur. Phys. J. A 56, 247 (2020).
7. Manoj Kumar Sharma et al., Phys. Rev. C (Letters) 104, L031601 (2021).
8. Manoj Kumar Sharma et al., Phys. Rev. C 110, 024613 (2024).
9. Manoj Kumar Sharma et. al., Phys. Rev. C 94, 044617 (2016).Speaker: Prof. Manoj Kumar Sharma (Department of Physics, University of Lucknow, Lucknow, 226007, Uttar Pradesh, India) -
308
Результаты моделирования реакций T(d,n)4He и D(d,n)3He с использованием Geant4
Электрофизические источники нейтронного излучения на базе линейных ускорителей заряженных частиц являются важным инструментом современной экспериментальной физики. Нейтронные генераторы применяются для получения таких ядерно физических данных как микроскопические сечения взаимодействия, уровни возбуждения ядер и др. При этом, чем точнее известен энергетический спектр нейтронов, испускаемых генератором тем точнее результат оценки исследуемого ядерно-физического параметра. В связи с этим актуальной задачей является расчет энергетического спектра нейтронов, образующихся в результате термоядерных реакций.
Основной особенностью расчета спектра нейтронов, образующихся в реакциях T(d,n)4He и D(d,n)3He в объеме мишени нейтронного генератора, является корректный учет процессов торможения дейтерия в веществе мишени (мишень в большинстве случаев представляет собой гидрид титана). Существует ряд пакетов и программ для моделирования процессов торможения заряженных частиц в веществе (SRIM, MCNP, Geant4, PHITS, и др.).
В настоящей работе моделирование реакций T(d,n)4He и D(d,n)3He, а именно бомбардировка титан-тритиевой и титан-дейтериевой мишеней дейтронами с энергией 160 кэВ выполнено методом Монте Карло в программе Geant4. Представлены результаты расчета энергетических спектров DT и DD нейтронов, вылетающих из титан-тритиевой и титан-дейтериевой мишеней соответственно, под разными углами. Проведено сравнение результатов расчетов, полученных в Geant4 и SRIM.Speakers: Александр Долгополов (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Иван Вершинин (РФЯЦ-ВНИИЭФ) -
309
Isospin conserving model for the TTIK technique
Neutron scattering by exotic nuclei is a class of reactions that cannot now be directly studied experimentally. Resonance proton scattering of exotic nuclide on a thick target in inverse kinematics (TTIK) is an elegant and powerful experimental method that provides, an opportunity to infer the properties of neutron scattering on exotic nuclei based on studies of observed isobaric-analog state (IAS) in the $^{A}$Z+p channel and using the isospin symmetry concept [1-6]. However, in recent decades no attempt has been made to carry out a theoretical analysis of this technique, correctly using this concept of isospin symmetry.
To analyze and interpret the data from such experiments, we developed an isospin-conserving coupled channel model (ICM) [7], which, unlike previously used models, takes into account the most important features of such scattering, namely: the connection between isobaric channels and dynamics of the isospin structure of studied nuclear systems. In the framework of the developed model, which explicitly conserve isospin, the example of the $^{8}$He+p system was used to illustrate how strongly the mixing of isospin T = 3/2 and T = 5/2 can influence to the observable characteristics of $^{9}$He resonances, which have pure isospin T = 5/2. Also, calculations in this model for the case of narrow resonances predict qualitatively different phase shifts for the $^{8}$He+p resonances with dominant isospins T = 5/2 and T = 3/2 with a very unusual profile for the T = 5/2 states. This model prediction may be extremely important for the correct identification of the isospins of the observed resonances in such experiments.
Using ICM model we gave another interpretation of the latest $^{8}$He+p data obtained in the TTIK experiment than that proposed in the work [5]. We also show that there may be more interpretations and, if we want to achieve unambiguity in the interpretation of such experiments, it is necessary to take into account the neutron emission channel.- V. Goldberg et al., JETP Lett. 67, 1013 (1998).
- G. V. Rogachev et al., Phys. Rev. C 67, 041603 (2003).
- G. V. Rogachev et al., Phys. Rev. Lett. 92, 232502 (2004).
- C. Hunt et al., Phys. Rev. C 102, 014615 (2020).
- E. Uberseder et al., Phys. Lett. B 754, 323 (2016).
- C. Hunt et al., Phys. Rev. C 108, L051606 (2023).
- M. Khirk et al., Phys. Rev. C Lett. (in print), (arXiv:2502.14595).
Speakers: Leonid Valentinovich Grigorenko (Joint Institute for Nuclear Research), Mishel Saib Khirk (Joint Institute for Nuclear Research) -
310
Единый подход к описанию прямого и двухступенчатого механизмов в реакциях перезарядки
В данной работе представлен теоретический анализ реакции обмена зарядами $^{40}$Ca($^{18}$O,$^{18}$F)$^{40}$K при энергии 275 МэВ, выполненный в рамках единого подхода, учитывающего как прямой механизм обмена мезонами (DME), так и двухступенчатые процессы передачи нуклонов (n→p и p→n). Использован борновский метод искаженных волн (DWBA), при этом для структурных входных данных применена оболочечная модель с перекрестными модельными пространствами p-sd и sd-pf оболочек. Полумикроскопический оптический потенциал, предварительно протестированный на упругом и неупругом рассеянии, использовался для описания взаимодействий.
В расчётах учитывались переходы к основному и первым возбужденным состояниям ядер-мишени и ядер-частиц. Результаты показали, что основной вклад в сечения реакции вносит прямой механизм обмена мезонами, особенно в области малых углов. Однако двухступенчатые механизмы также оказываются значимыми при описании переходов к ряду возбужденных состояний, особенно при больших углах рассеяния.
Сравнение с экспериментальными данными показало хорошее соответствие расчётов с наблюдаемыми сечениями, что подтверждает корректность используемой модели. Проведённый анализ демонстрирует важность комплексного подхода к описанию реакционных механизмов и подтверждает перспективность рассмотренной реакции для получения ядерных матричных элементов, важных для интерпретации процессов безнейтринного двойного бета-распада ($0\nu\beta\beta$).
Speaker: Бакытжан Ажитович Уразбеков (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан)
-
306
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics 2053 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
2053
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Н.Е. Пухаева (Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия; Северо-Осетинский государственный университет, Владикавказ, Россия)-
311
Пространственная изоляция ионов, разделенных в много-отражательном времяпролетном масс-анализаторе
Много-отражательные времяпролетные масс-анализаторы (МО ВПМА) получили широкое распространение в ядерно-физических экспериментах, поскольку сочетают высокую разрешающую способность и точность измерения масс с высокой скоростью анализа, позволяющей измерять массы изотопов, времена жизни которых начинаются от 50 мс. МО ВПМА также используются как масс-сепараторы, выделяющие исследуемые ионы из общего спектра для дальнейшего исследования их свойств. Изоляция исследуемых ионов после разделения по времени пролета осуществляется либо затвором Брэдбюри-Нильсена, либо улавливанием «на лету» в газонаполненную радиочастотную ловушку. Оба эти метода имеют временное разрешение порядка 20 нс, в то время как временное разрешение МО ВПМА существенно выше – до 2 нс. В результате времяпролетные масс-сепараторы на основе МО ВПМА обладают разрешающей способностью на порядок хуже, чем собственно времяпролетные масс-анализаторы. Повышение разрешающей способности масс-сепаратора требует увеличения временной дисперсии МО ВПМА и, соответственно, пропорционального увеличения времени анализа.
В докладе предложен альтернативный метод пространственной изоляции ионов, разделенных в МО ВПМА. Пакет ионов после прохождения конечного временного фокуса МО ВПМА и некоторого дрейфового промежутка вводится в замедляющее электростатическое поле. Поскольку ионы больших энергий входят в замедляющее поле раньше ионов меньших энергий, в фиксированный момент времени они теряют больше энергии в поле и, таким образом, после входа всех ионов пакета в поле можно добиться существенного устранения их энергоразброса. В некоторый момент времени замедляющее поле выключается. При этом, конечная энергия ионов пакета зависит от момента времени выключения поля. Поэтому ионы различных масс, пришедшие в конечный временной фокус МО ВПМА в разное время, в момент отключения замедляющего поля будут иметь различную энергию. Конверсия временного разделения по массам в разделение по энергии позволяет пространственно разделить пакеты ионов разных масс с помощью электростатического энергоанализатора. Расчеты показывают, что даже при использовании простого 90-градусного секторного энергоанализатора можно полностью пространственно разделить пакеты длительностью 2 нс ионов массы 250 а.е.м. с энергоразбросом от 1270 до 1330 эВ от ионов другой массы, пришедших во временной фокус анализатора с интервалом в 4 нс, то есть повысить разрешающую способность масс-сепаратора в 5 раз по сравнению с используемыми в настоящее время методами изоляции ионов. Улучшение качества энергоанализатора за счет увеличения его дисперсии и устранения пространственных аберраций позволит добиться временного разрешения сепаратора на основе МО ВПМА в 2 нс, то есть сделать его равным собственному временному разрешению МО ВПМА.Speaker: Михаил Явор (Институт аналитического приборостроения РАН) -
312
High intensity Linacs for low energy nuclear physics and neutron source
The high intensity ion linac is an attractive instrument for both the nuclear investigation and neutron generation. The low energy high intensity heavy ion linac (~ 7 MeV/nucleon) can be used for multi-nucleon transfer reactions investigation. The particular, the reactions study is important for understanding the so-called 3rd peak of the distributions of the astrophysical p-process. The proton high intensity linac (energy from 2.5 to 70 MeV) can be used as a neutron source for academic research and industrial application. The development of such linacs require the similar technologies for RFQ and DTL resonators. In Russia those technologies are under development in framework of compact accelerator-driven neutron source DARIA [1,2]. The talk presents the current status of the RFQ and DTL development.
1. “Дорожная карта” в области ядерной физики, Ред. Л.В. Григоренко, М.: РАН, 2021. ISBN 978-5-907366-33-6.
2. Развитие физики и технологии ускорителей заряженных частиц, Ред.-сост. Б.Ю. Шарков, И.Н. Мешков, М: РАН, 2021. ISBN 978-5-907366-27-5Speaker: Timur Kulevoy (KCTEP-NRC KI) -
313
Исследование процессов вторичной электронной эмиссии с использованием системы диагностики пучков заряженных частиц и тяжелых ионов
Активное использование ускорительной техники в научных исследованиях требует создания новых инженерно-технологических решений в области контроля качества пучков заряженных частиц. Одними из важнейших параметров являются структура и пространственное положение пучка. В данной работе представлена многосенсорная система мониторинга пучков заряженных частиц и тяжелых ионов, разработанная в учебной лаборатории ядерных процессов СПбГУ. Система позволяет визуализировать профиль пучков от протонов до ионов аргона в широком диапазоне их масс, и энергий [1]. Принцип работы системы основан на использовании эффекта вторичной электронной эмиссии. Система состоит из сканирующей сетки позолоченных вольфрамовых сенсоров (8 вертикальных и 8 горизонтальных), размещенной внутри ионопровода ускорителя. При взаимодействии частиц пучка с веществом сенсоров, возникают процессы, которые приводят к возникновению вторичных электронов. В результате каждый сенсор становится генератором тока. Измеряя сигнал на каждом сенсоре, можно восстановить профиль пучка и исследовать процессы вторичной эмиссии электронов.
В данной работе была проведена серия экспериментов на Уникальной Научной Установке (УНУ) «Циклотрон ФТИ им. А.Ф. Иоффе типа У-120» с использованием пучков протонов с энергией 1,9 и 3 МэВ и ионов 40Ar+8 с энергией 53 МэВ. Результатом экспериментов стала визуализация профилей пучков протонов и ионов 40Ar+8, а также накопление статистики сигналов, обработка которых позволила получить коэффициенты вторичной электронной эмиссии частиц при их взаимодействии с материалом сенсоров, используемых в многопроволочной системе. Данный результат послужил основой для проверки теоретических моделей, которые пытаются описать процессы вторичной электронной эмиссии при взаимодействии пучков заряженных частиц и тяжелых ионов низких энергий (до 3 МэВ/нуклон) с различными материалами.1.Патент РФ №2830097, 21.02.2024
Speaker: Егор Землин (Санкт-Петербургский государственный университет) -
314
Пост-эффекты облучения тантала заряженными частицами
С использованием рентгеновской дифракции и эмиссионной мессбауэровской спектроскопии изучены пост-эффекты облучения металлического тантала пучками протонов с начальной энергией 7 МэВ.
Незначительный слой полного поглощения CuКα-излучения (8.05 кэВ) в металлическом тантале (около 8 мкм), еще более малая толщина (всего несколько мкм) «допированных» атомами 57Co поверхностных слоев образцов позволила исключить из рассмотрения «прямые» радиационные повреждения кристаллической решетки пучками протонов (потери энергии которых в слое толщиной 8 мкм составляют 0.3 МэВ, при этом число смещенных атомов в результате прохождения протонов ничтожно - 0.1 вакансий/ион) и изучить последствия облучения металла «собственными» атомами Ta (имеющими энергию более 160 кэВ и создающими более 3900 вакансий/ион), выбитыми из узлов решетки во время бомбардировки мишеней.
После облучения на дифрактограммах образцов отчетливо видны расщепления основных линий дифракционных рентгеновских спектров, которые можно объяснить только межфазными напряжениями [1], возникающими в результате остывания теплового клина (thermal spike) и образованием клиньев смещения (displacement spike) внутри разупорядоченных (в результате облучения выбитыми из узлов решетки атомами тантала) зон. С увеличением угла сканирования вклад поврежденной области в полную дифракционную картину увеличивается, что сопровождается «усилением» тонкой структуры дифракционных рентгеновских спектров.
Наличие значительного числа радиационно-индуцированных дефектов различного типа в окрестности мессбауэровского атома приводит к уширению линий эмиссионного спектра почти на 20%.- А.И. Самойлов, Е.Н. Каблов, Н.В. Петрушин и др. О природе расщепления гамма-сателлитов рентгеновских дифракционных рефлексов жаропрочных монокристальных никелевых сплавов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 2010, т. 76, № 12, с. 26-29.
Speaker: Игорь Алексеев (Радиевый институт имени В. Г. Хлопина) -
315
Новый метод измерения степени диссоциации пучков легких ядер и ионов
Реакции H(d, p)3H и 2H(d, n)3He играют важную роль в астрофизике и термоядерной энергетике. Использование поляризованного дейтерия в качестве топлива может позволить повысить сечение синтеза на 50% [1], подавить нейтронный канал и создать анизотропию продуктов реакции, что увеличит КПД реактора и снизит радиационную нагрузку на материалы.
С 2009 года в НИЦ «Курчатовский Институт» – ПИЯФ проводится эксперимент PolFusion, направленный на измерение дифференциальных сечений dd-реакций, коэффициентов Cz.z и Czz.zz, и фактора подавления квинтетного состояния (QSF) [2].
Одним из ключевых параметров источника - интенсивность пучка, которая напрямую определяет время проведения экспериментов. В источнике важнейшим параметром является степень диссоциации – соотношение молекулярного и атомарного водорода (дейтерия) в пучке.
Данная работа посвящена разработке масс-спектрометра легких ядер (массы 1, 2, 3 и 4) на основе фильтра Вина, как перспективного метода для определения степени диссоциации пучков лёгких ядер и ионов. Преимуществами разрабатываемой конструкции являются: малые линейные размеры, низкий вес, технологическая простота и невысокая стоимость. Важно отметить, что по разрешающей способности в области легких масс разрабатываемый прибор сопоставим с более сложными cross-beam масс-спектрометрами.
Список литературы
1. Theor.: G. Hupin et al. Nature Com. 10, 321 (2019)
2. Project on Research of Nuclear dd Synthesis with Polarization of Initial Particles at Low Energies (PolFusion) / A. Yu. Rozhdestvenskij, A. V. Andreyanov, A. A. Vasilyev [et al.] // Physics of Atomic Nuclei. – 2024. – Vol. 87, No. 3. – P. 224-229. – DOI 10.1134/S1063778823600689. – EDN CGPWFM.Speakers: Александр Васильев (НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ), Владислав Ларионов (НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ)
-
311
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Vladimir Kovalenko (Saint Petersburg State University)-
316
Влияние деформации ядер на моделирование азимутальной анизотропии в Монте-Карло генераторе HYDJET++
В моделировании столкновений тяжелых ионов на высоких энергиях широко применяются Монте-Карло генераторы, такие как HYDJET++[1], сочетающий гидродинамическое описание мягкой компоненты событий с отдельным моделированием жестких процессов. Этот Монте-Карло генератор широко использовался для воспроизведения, например, результатов эксперимента CMS [2], также применялся для ускорителя RHIC и будущих экспериментов на NICA.
В данной работе представлена дальнейшая модификация мягкой компоненты HYDJET++ с учетом несферичности исходных ядер. Внесенные изменения позволяют моделировать влияние деформации ядер на начальные условия столкновения, что, в свою очередь, может существенно повлиять на формирование коллективных эффектов, таких как эллиптический азимутальный поток.
Для оценки влияния деформации ядер были сгенерированы выборки событий с использованием как оригинальной, так и модифицированной версии HYDJET++. Анализ азимутальной анизотропии проводился для рассчитанных с использованием методов двух- и четырехчастичных кумулянтов [3], а также метода истинной плоскости реакции, величин эллиптического потока $v_2$. Особое внимание уделялось интегральному значению $v_2$, поскольку он чувствителен к геометрии начального состояния.
Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными позволяет оценить, насколько учет деформации ядер улучшает согласие модели с наблюдаемыми характеристиками азимутальной анизотропии. Ожидается, что подобный учет начальной геометрии окажет влияние на формирование эллиптического потока, особенно в нецентральных столкновениях.
Таким образом, представленная модификация генератора HYDJET++ с учетом деформации ядер представляет собой важный шаг к более точному моделированию начальных условий столкновений тяжелых ионов и может способствовать лучшему пониманию механизмов формирования коллективных эффектов в таких системах.
1.I. P. Lokhtin, L. V. Malinina, S. V. Petrushanko, A. M. Snigirev, I. Arsene, K. Tywoniuk. Heavy ion event generator HYDJET++ (HYDrodynamics plus JETs) // Comput. Phys. Commun. 2009. V. 180, 779. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2008.11.015
2. S. Chatrchyan et al. (CMS Collaboration). The CMS experiment at the CERN LHC // Journal of Instrumentation, Volume 3, August 2008 http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/S08004
3. Poskanzer A.M., Voloshin S.A. Methods for analyzing anisotropic flow in relativistic nuclear collisions // Physical Review C. — 1998. — V. 58, no. 3. — P. 1671–1678. https://doi.org/10.1103/PhysRevC.58.1671Speaker: Данила Мягков (Физический Факультет МГУ) -
317
Application of the holographic equations of state for modeling experiments on heavy ion collisions
At the beginning of the 21st century, a new phase state of strongly interacting matter was established, known as the quark-gluon plasma (QGP). To study the formation of the QGP in collisions of heavy nuclei, the solution of a system of equations of relativistic hydrodynamics with a specific equation of state (EoS) is typically employed.
Lattice Quantum Chromodynamics (LQCD) is an effective theoretical tool for studying the thermochemical evolution of strongly interacting matter, but it encounters difficulties for non-zero baryonic potentials. In light of this, various holographic models based on the well-known AdS/CFT duality have been proposed to obtain EoS for the QGP using the thermodynamic properties of the corresponding black brane in AdS$_5$.
In the present work, a calibration method is proposed for the holographic EoS developed by I. Ya. Aref'eva's theoretical group to study QGP properties within the framework of relativistic hydrodynamics. The free parameters of the model are adjusted using the LQCD results for quark masses that approximate the physical values. Machine learning methods were applied to address the regression and optimization issues during the calibration of the relevant parameters. For practical applications in studying heavy-ion collisions, the corresponding holographic EoS was incorporated into the relativistic hydrodynamics packages MUSIC and vHLLE.
To obtain the final hadron spectra, numerical simulations were conducted using the iEBE-MUSIC and SMASH-vHLLE frameworks, which additionally include a set of packages for initial conditions, freeze-out, hadronization, and hadronic afterburner. Consequently, the rapidity and transverse mass distributions of produced hadrons were calculated at the energies of NA49 experiment.
The authors acknowledge Saint-Petersburg State University for a research project 103821868.
Speaker: Anton Anufriev (Saint Petersburg State University) -
318
Upcgen: an event generator for two-photon and photoproduction processes in ultraperipheral collisions
Upcgen is a dedicated Monte Carlo event generator for simulation of dilepton production and vector meson photoproduction processes in ultraperipheral collisions (UPCs).
The dilepton production cross section in UPCs is calculated by folding the elementary $\gamma\gamma \to \ell \ell$ cross section with the photon fluxes produced by the colliding nuclei. These photon fluxes are modeled using nuclear form factors, which account for possible emission of photons from inside the nucleus. This approach results in an increase of predicted cross sections and is expected to improve description of the experimental data. Furthermore, the lepton anomalous magnetic moment can be freely adjusted, making it particularly valuable for investigating the tau g-2 via ditau production measurements in UPCs.
In addition, the latest version of Upcgen provides a possibility to model photoproduction of heavy vector mesons that is used to probe poorly known gluon shadowing effects at low Bjorken-$x$ values. Upcgen calculations rely on the leading order pQCD framework, where photoproduction cross sections are proportional to the square of the gluon density in the target nuclei. The gluon PDF in nuclei is modeled using either EPS09 parameterisation or the leading twist theory of nuclear shadowing. In a view of new experimental data expected in Run 3 and 4 of the LHC, one can strongly benefit from a powerful tool for detailed studies of the kinematic properties of photoproduction processes.
In this report, we will present the Upcgen generator and discuss its capabilities in more detail.
Speaker: Nazar Burmasov (PNPI, JINR, MEPhI) -
319
Hybrid approach for simulating heavy flavor transport in small colliding systems
In this talk, we present preliminary results of our study of heavy flavor (HF) transport in the evolving medium produced in p+p collisions at LHC energies. The findings are obtained using event-by-event simulations in a hybrid approach that combines multiple methods to model different stages of the interaction.
The investigation addresses the open question of Quark Gluon Plasma (QGP) droplet formation in collisions of small systems [1,2]. A number of observations indeed supports this scenario in high-multiplicity p+p, e.g. measured charged hadron azimuthal anisotropies [3] and strangeness enhancement [4]. On the other hand, there are vivid discussions about natural limitations of hydrodynamical description [5,6].
Typically, HF are considered to be excellent probes of the medium as they are mostly produced in the primary hard scattering and penetrate the expanding fireball. Remarkably, the azimuthal anisotropies of HF hadrons produced in p+p are found to be comparable [7] to those of light flavors, which favors the assumption of in-medium interactions of HF quarks with thermal constituents of the QGP formed [8]. Moreover, p+p data show a non-linear increase of the relative HF yields with the relative charged-particle multiplicity [9,10]. This has been preliminarily explained by the reduction of charged particle multiplicity due to formation of high density medium rather than by the increase of HF yields [11,12].
Thus, it is of great importance to simultaneously consider HF transport in various system evolution models, such as, for example, hydrodynamic expansion [13] and dense color string dynamics [14], and an «event activity» (bulk particles) even in p+p collisions.
[1] R. D. Weller, P. Romatschke, Phys. Lett. B 774, 351-356 (2017).
[2] Y. Zhou et al., Nucl. Phys. A 1005, 121908 (2021).
[3] V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], JHEP 09, 091 (2010).
[4] J. Adam et al. [ALICE Collaboration], Nature Phys. 13, 535-539 (2017).
[5] P. Romatschke, Phys. Rev. Lett. 120 (2018) 012301.
[6] V. E. Ambrus, S. Schlichting, C. Werthmann, Phys. Rev. Lett. 130, 15, 152301 (2023).
[7] A. M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], Phys. Lett. B 813, 136036 (2021).
[8] J. Zhao et al., Phys. Rev. D 109, 5, 054011 (2024).
[9] B. Abelev et al. [ALICE Collaboration], Phys. Lett. B 712, 165 (2012).
[10] J. Adam et al. [ALICE Collaboration], JHEP 09, 148 (2015).
[11] K. Werner et al., J. Phys.: Conf. Ser. 736, 012009 (2016).
[12] V. Kovalenko, V. Vechernin, EPJ Web of Conferences 164, 08002 (2017).
[13] J. Zhao et al., Phys. Rev. C 110, 2, 024909 (2024).
[14] D. Prokhorova, E. Andronov, MDPI Physics 6, 1, 264-289 (2024).Speaker: Daria Prokhorova (Tsinghua University) -
320
Simulation of neutron and nuclear fragment production in Urqmd 3.4 model supplemented by clustering model and multi-fragmentation statistical model
Many experiments in high energy physics use the URQMD model at the design stage, for predictions of experimental data and also for analysis of the obtained results. We used the new version of the URQMD 3.4 model to analyze the experimental data of the NA61/SHINE collaboration. We obtained that the UrQMD 3.4 model reproduces the data on π±, K-, proton and anti-proton production in 40Ar + 45Sc interactions with the appropriate choice of the impact parameter. We also apply the UrQMD 3.4 model to study the spectra of neutrons produced in proton-nucleus interactions. The model well reproduces energetic (En > 10 MeV) neutron spectra in p + Al, Fe, Pb at the energy 3 GeV in the so-called "cascade" mode. Off-shell mass neutrons are dominate at lower neutron energies. The off-shell nucleons have to form residual nuclei at de-excitation of which evaporated nucleons and light nuclei have to be produced. In order to simulate the process, we have coupled the UrQMD 3.4 model with the clustering model and Statistical Multi-fragmentation model (SMM) using "potential" mode of the UrQMD model. We have reached a good description of energy distributions of slow and fast neutrons produced in proton-nucleus and nucleus-nucleus interactions. UrQMD 3.4 +SMM model also reproduces sufficiently well the atomic mass and charge distributions of nuclear fragments in nucleus-nucleus interactions. UrQMD 3.4 +SMM can be applied at NICA experiments.
Speaker: Aida Galoyan (JINR Dubna)
-
316
-
5. Physics of neutrino and nuclear astrophysics 70(2013) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
70(2013)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Vladimir Kondratyev (JINR)-
321
Определение астрофизического S-фактора в области малых энергий взаимодействия ядер, в рамках потенциального подхода.
В работе рассмотрен метод экстраполяции астрофизического S-фактора в области малых энергий вблизи гамовского окна на примере реакции слияния ядер кислорода и углерода. Несмотря на важность изучения таких процессов для понимания эволюции массивных звезд, на сегодняшний день существует довольно ограниченный набор экспериментальных данных в этой области энергий, причем зачастую эти данные имеют противоречивый характер [1,2]. К тому же недавно обнаруженное подавление сечения слияния в глубоко подбарьерной области выявило необходимость модификации существующих теоретических моделей [3]. Дополнительную неопределенность вносит многопараметрический характер большинства подходов, связанных с вычислением S-фактора в области малых энергий. Таким образом, имеется необходимость в рассмотрении простых методов, позволяющих описывать поведение сечения малым числом свободных параметров. В данной ситуации оптимальным выбором является модель с комплексным прямоугольным потенциалом. Она получила хорошее теоретическое обоснование [4] и продемонстрировала высокую эффективность при описании функций возбуждения для реакций слияния в широком диапазоне масс сталкивающихся ядер [5]. С другой стороны, попытки экстраполяции астрофизического S-фактора связаны с переходом к величине S$^*$-фактора, учитывающего второй порядок в описании коэффициента проницаемости, что проводит к появлению множителя вида $\exp(-gE)$, где $Е$ — энергия взаимодействия, а параметр g связан с радиусом прямоугольной ямы. Несмотря на простоту данного метода, сегодня он применяется, в основном, при описании ядерной реакции $^{12}$C+$^{12}$C. В то же время, используемый в работе [5] подход позволяет естественным образом провести систематику величины $g$ и для других ядер, важных с точки зрения астрофизики.
В работе рассмотрен случай экстраполяции S$^*$-фактора, полученного в рамках потенциального подхода, в область энергий, соответствующих температурам в массивных звездах и проведено сравнение полученных результатов с имеющимися на сегодняшний день моделями и экспериментальными данными [6].- A. Tumino, C. Spitaleri, M. La Cognata et al. An increase in the 12C+12C fusion rate from resonances at astrophysical energies, Nature 557, 687 (2018).
- A. M. Mukhamedzhanov, D. Y. Pang, and A. S. Kadyrov, Astrophysical factors of $^{12}$C+$^{12}$C fusion extracted using the trojan horse method, Phys. Rev. C 99, 064618 (2019).
- C.L. Jiang, B.B. Back, K.E. Rehm, et al. Heavy-ion fusion reactions at extreme sub-barrier energies. Eur. Phys. J. A 57, 235 (2021).
- R. Ogura, K. Hagino, C. A. Bertulani Potential model for nuclear astrophysical fusion reactions with a square-well potential Phys. Rev. C 99, 065808 (2019).
- S. Y. Torilov, N.A. Maltsev, V.I. Zherebchevsky Astrophysical S-Factor in the Model of a Square Potential Well Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 87, 1217 (2023).
- M. Wiescher, C. A. Bertulani, C. R. Brune et al, Quantum physics of stars Rev. Mod. Phys. Accepted 7 February, 2025
Speaker: Валерия Вигер (Санкт-Петербургский государственный университет) -
322
Применение антенны AX-Offset D90 для изучения астрофизических источников, включая Солнце, методами радиоинтерферометрии
Радиоинтерферометрия – метод, основанный на приёме космического радиоизлучения несколькими далеко разнесёнными антеннами и интерференции принятых сигналов, его развитие для диагностики космофизических явлений стало чрезвычайно актуальным в последнее время [1]. Экстремальное энерговыделение в астрофизических источниках, включая Солнце, связано с процессами ускорения и взаимодействия элементарных частиц и ядер. Несмотря на продолжительные исследования, единого мнения о механизмах и природе активности таких астрофизических объектов нет и существующие теории не способны объяснить их всех наблюдательных проявлений, поэтому актуальным является проведение изучения таких источников с хорошим угловым разрешением методами радиоинтерферометрии, в частности с использованием антенны AX-Offset D90. Обсуждается схема радиоинтерферометра МИФИst с незаполненной апертурой общим размером ~450 м и его прототипа на основе таких антенн. В состав радиоинтерферометра входят 2 ветки, в каждой из которых по 2 Г-образных антенных решетки из нескольких десятков основных антенных модулей (ОАМ). Прототип содержит 2 ветки на основе Т-образных решеток из 5 ОАМ в каждой. Будут использоваться ОАМ на основе параболической сетчатой офсетной антенны AX-Offset D90, для крепления которой применяется моторизированная альт-азимутальная монтировка [2]. Рабочий диапазон радиоинтерферометра МИФИst составляет 0,3 - 1,75 ГГц, в дальнейшем планируется смещение его верхней границы до 6 ГГц. В задачи радиоинтерферометра входит исследование радиоизлучения от астрофизических источников, включая Солнце. Изучение солнечного радиоизлучения даст возможность продолжить идентификацию механизмов ускорения электронов, вспышечного нагрева плазмы и процессов переноса энергии, а также исследовать ударные волны и эволюцию крупномасштабных структур в солнечной атмосфере. Эти результаты обеспечат дальнейшее развитие методов индексирования и мониторинга солнечной активности по характеристикам радиоизлучения. Обсуждается совместная работа с Многоволновым радиогелиографом НГЦ РАН (ИСЗФ СО РАН) [3], что позволит изучать радиопрозрачность элементов грануляции в атмосфере Солнца. Кроме того, эта установка может быть использована для изучения излучения в линии водорода НI 1420,40575 МГц при различных красных смещениях $z$, например, от протогалактик и галактик на космологических расстояниях, что даст возможность прояснить некоторые космологические закономерности и выявить принципы для построения еще одной новой уникальной шкалы Gal_z для H0-tension (кроме CMB и сверхновых [4]). Также будут изучаться свойства магнетаров и радиовсплесков, вариативность периода некоторых радиопульсаров и т.д. Результаты будут представлены в международных базах данных Visier, NED и т.д.
Список литературы
1. Васильев М.В., Зимовский В.Ф., Мельников А.Е. и др // Приборы и техника эксперимента. № 6, С. 111-124 (2022).
2. Архангельская И.В., Виноградская А.В., Зарипов И.Д. и др. // XI Международная конф. ЛАПЛАЗ-2025. Сб.
научн. тр. 2025. С. 372. (2025).
3. Увалов А.М., Лесовой С.В., Гречнев В.В. и др // Солнечно-земная физика. Т. 11. №. 1. С. 88-97 (2025).
4. Gómez-Valent A., Favale A., Migliaccio M et al // Phys. Rev. D. V. 109. #2. id.023525 (2024).Speaker: Ирина Архангельская (НИЯУ МИФИ) -
323
Предварительные результаты исследований однородности выборок сверхновых типа 1a по данным каталогов Open Supernova (OSC) и Asiago Supernova (ASC).
Форма пространственного распределения астрофизических источников излучения (в том числе и в жестком $\gamma$-диапазоне), которые можно рассматривать как однородную выборку, определяется свойствами пространства на различных расстояниях (при различных красных смещениях $z$) и космологическими параметрами нашей Метагалактики. Обычно светимость сверхновых SNIa применяется в качестве стандартных свечей для космологических измерений [1], что дает основания считать их источники однородной выборкой. Подвыборка SNIa из проекта Supernova Cosmology Project была впервые проанализирована в 1995 г. для определения параметров $\Omega$ и $\Lambda$ нашей Метагалактики [2]; было получено, что пространство-время является де-Ситтеровским при больших z и евклидовым при малых. В докладе обсуждаются предварительные результаты изучения распределений по $z$ и звездным величинам $m$ и для SNIa из каталогов Asiago Supernova (ASC) [3] и Open Supernova (OSC) [4]. Распределения количества SNIa по $m$ содержат 2 подгруппы (слабые (faint) и яркие (bright)) как для ASC, так и для OSC, разделенные $m_{fb}$ ∼ 20. Например, разница в видимых величинах SN 1998aq и SN 2004W составляет $\Delta m_{samedist}$ ~6, в то время как их $z$ близки ($\Delta z \sim 2 ^ {10-4}$). По предварительным результатам нет никакой зависимости между $\Delta m_{samedist}$ , $z$ объекта и m родительской галактики (host galaxy - HG). Более того, в пределах одной HG $m$ SNIa могут различаться на $\Delta m_{onehost}$ ∼ 2,5 (например, в UGC03432). Эта разница больше, чем систематические неопределенности измерений характеристик SN1a, а отсутствие специфических линий поглощения в энергетических спектрах этих SNIa исключает влияние окружающей среды на яркость события. Две особенности в области $0.25 < z < 0.45$ (одна содержит больше ярких SNIa, другая - больше тусклых) и неоднородность в интервале $1.51 \times 10^{- 2} < z < 0.10$ с более слабыми SN1a выделяются в распределении SN1a из OSC по $z$ и звездной величине. Аналогичное распределение для ASC имеет особенности в областях $1.0 \times 10^{- 2} < z < 5.0 \times 10^{- 2}$ и $9.0 \times 10^{- 2} < z < 0.45$, содержащие более тусклые SN1a. Также 2 области ($faint_{dist}$ и $bright_{dist}$) выявлены в распределении SNIa по $m$ и смещению SN от ядра HG по данным OSC. Обнаруженные особенности не удается объяснить различиями сценариев взрывов SNIa (Single Degenerate и Double Degenerate), использующих стандартные модели ядерных реакций [5], более того, яркость этих SN1a не может уменьшаться из-за взаимодействия с окружающей средой из-за отсутствия специфических линий поглощения в энергетических спектрах анализируемых событий. Соответственно, они могут быть вызваны изменениями свойств Метагалактики при больших $z$ или некоторыми неизвестными аспектами сценариев взрывов SNIa. Более того, эффект H0-tension [6] может быть вызван различным соотношением слабых и ярких SN1a в анализируемых подвыборках. Также эти подгруппы влияют на поведение зависимости модуля расстояния $\mu$ от $z.$ Для дальнейших выводов необходим комбинированный анализ наборов данных OSC и подвыборок SN 1A с большими $z$, например Dark Energy Survey SN [7].
Список литературы
1. A. Goobar et al., ApJ 450 14 (1995).
2. S. Perlmutter et al., BAAS 29 1351 (1997).
3. https://heasarc.gsfc.nasa.gov/W3Browse/all/asiagosn.html.
4. https://github.com/astrocatalogs/supernovae
5. O. G. Benvenuto et al., ApJ Lett 809 L6 (2015).
6. K. Naidoo et al., Phys. Rev. D 109(8), 083511 (2024).
7. R. Camilleri et al., MNRAS 537(2), 1818 (2025).Speaker: Ирина Архангельская (НИЯУ МИФИ) -
324
Баксанский большой нейтринный телескоп
Баксанский большой нейтринный телескоп — многозадачный жидкосцинтилляционный детектор с массой мишени 10 кт. Телескоп разрабатывается на Северном Кавказе, в подземной инфраструктуре Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН (БНО ИЯИ РАН). Проект включает в себя 4 этапа. В работе основное внимание уделяется первым двум стадиям проекта: уже завершенному полутонному прототипу и пятитонному прототипу, который находится настоящее время на стадии сборки.
Полутонный прототип Баксанского Большого нейтринного телескопа находится в лаборатории Галлий-Германиевого нейтринного телескопа (ГГНТ) на глубине 4550 м. в. э. Конструкция прототипа включает две зоны. Центральная зона представляет собой акриловую сферу с внутренним радиусом 48 см. Сфера заполнена сверхчистым жидким сцинтиллятором на основе линейного алкилбензола (ЛАБ). В качестве первичной сцинтилляционной добавки используется PPO с концентрацией 2 г/л. Мишень просматривается двадцатью 10-дюймовыми фотоэлектронными умножителями Hamamatsu R7081-100 WA-S70 с высокой квантовой эффективностью около 35% в диапазоне длин волн 360–430 нм. Внешняя зона, окружающая акриловую сферу, заполнена сверхчистой водой, которая выполняет функцию пассивной защиты от внешней радиоактивности.
Второй прототип детектора с массой мишени 5 тонн находится на стадии сборки. Детектор также состоит из двух зон. Акриловая сфера, заполненная жидким сцинтиллятором, имеет увеличенный до 1.1 м радиус. Высота водного резервуара составляет 4 м, а радиус 2 м, толщина водного слоя – 0.9 м. Сорок два 10-дюймовых ФЭУ Hamamatsu R7081-100 WA-S70 установлены на каркасе из нержавеющей стали. Также в конструкцию детектора были добавлены двенадцать 8-дюймовых ФЭУ Hamamatsu R5912-100 WA-S70, которые используются в системе мюонного вето. Одним из улучшений, помимо увеличенного объема мишени и большего количества ФЭУ, является использование концентраторов света для улучшения светосбора. Также для прототипа была разработана система компенсации магнитного поля Земли, в которой используются катушки Гельмгольца.Speaker: Арслан Луканов (ИЯИ РАН) -
325
Метод определения глубины максимума ШАЛ по длительности импульса по данным черенковской установки TAIGA-HiSCORE
Первичные космические частицы представляют собой ядра различных элементов, которые имеют отличающийся пробег взаимодействия в атмосфере. После первичного взаимодействия с атмосферой и передачи большой доли энергии начинается широкий атмосферный ливень (ШАЛ) в виде каскада вторичных частиц. При этом каскадные кривые, описывающие плотность электронов в зависимости от атмосферной глубины, в районе максимума по форме не отличаются для разных типов первичных частиц. Поэтому глубина максимума ШАЛ, или $X_{\mathrm{max}}$, является параметром, позволяющим оценить массовый состав первичных космических лучей.
В данной работе представлен метод определения $X_{\mathrm{max}}$, основанный на анализе длительности импульсов черенковского излучения, регистрируемых широкоугольной черенковской установкой TAIGA-HiSCORE, входящей в состав гамма-обсерватории TAIGA [1]. Установка состоит из станций с четырьмя фотоумножителями, с площадью светосбора 0.5 м², расположенных с шагом ~106 м. Представленный метод основан на измерении длительности импульсов на расстоянии 200–400 м от оси ливня и дополняет метод, использующий пространственное распределение фотонов и крутизну между плотностями фоотонов на расстояниях 80 и 200 м ($P = Q80/Q200$) [2].
Для установления связи между длительностью импульсов и $X_{\mathrm{max}}$ проведено Монте-Карло моделирование ШАЛ в CORSIKA [3] с моделью адронных взаимодействий QGSJet-II-04 [4] без статистического прореживания (опция thinning). Симулированные импульсы сворачиваются с аппаратурной функцией станции, полученной через анодные каналы фотоумножителей, чтобы отразить характеристики импульсов в эксперименте. Результаты моделирования показывают, что длительность импульса увеличивается с расстоянием от оси ливня, и подтверждают корреляцию длительности импульса с расстоянием до глубины максимума. Оптимальным диапазоном для измерений определен интервал 200–300 м (среднее 255 м), где разброс данных минимален. Для первичных частиц с энергией 10–100 ПэВ ошибка восстановления $X_{\mathrm{max}}$ составляет 12 г/см².
Экспериментальная проверка метода через определение $X_{\mathrm{max}}$ и логарифма массового числа $lnA$ подтвердила его способность оценить средний массовый состав космического излучения. Результаты получены за 3 сезона наблюдений (2021-2024) для двух конфигураций установки (вертикальное и наклонное положение), которые показывают согласие с данными экспериментов Pierre Auger (прямое наблюдение глубины максимума) [5] и LHAASO (применение метода c $N_{\mathrm{el}}$ и $N_{\mathrm{mu}}$) [6]. В дальнейшем планируется процедура сравнения экспериментального распределения с распределениями по глубине максимума, получаемых для различных первичных составов в моделировании.
- N. Budnev et al, Nucl. Instrum. Meth. A 1039, 167047 (2022).
- V. Prosin et al, Phys. Atom. Nucl. 84(9), 1653-1659 (2021).
- D. Heck et al, FZKA 6019 (1998).
- S. Ostapchenko, EPJ Web Conf. 52, 02001 (2013).
- E. W. Mayotte et al, PoS ICRC2023, 365 (2023).
- Xing-Jian Lv et al, Astrophys. J. 979(2), 225 (2025).
Speaker: Марк Терновой (Иркутский государственный университет)
-
321
-
8. Nuclear physics methods in application to the study of cultural heritage РХО ПИБ (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
РХО ПИБ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Николай Мальцев (Санкт-Петербургский государственный университет)-
326
Ядерно-физические методы исследования артефактов эпохи бронзы-раннего железного века из памятников Крымского полуострова
Изучение археологических находок с помощью прецизионных ядерно-физических методов позволяет выйти на новый уровень исследований в археологии. Решение многих задач и получение новой информации о жизнедеятельности древнего человека, местах обитания, миграциях, хронологии событий, особенностях древних технологий, источников сырья для изготовления изделий, стало возможным с использованием различных изотопных методов исследования. Комплекс ядерно-физических методов исследований был впервые применен для изучения артефактов эпохи бронзового-раннего железного века памятников Крыма. Анализ стабильных изотопов (δ13C, δ15N) в костной ткани людей и животных на памятниках Бай-Кият 1, Долгий Бугор и др., а также радиоуглеродное датирование костей позволило охарактеризовать диету человека в позднем бронзовом – раннем железном веке в контексте развития земледелия и скотоводства. На основе полученных данных по материалам нескольких проанализированных поселений выделены различные группы людей, для которых характерны разные системы питания, прежде всего связанные со спецификой их хозяйственной деятельности. Измерения стабильных изотопов углерода и азота в костном коллагене проводились в Центре «Инструментальные методы в экологии» в Институте экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН с использованием масс-спектрометра Thermo-Finnigan Delta V Plus (Thermo Electron GmbH, Бремен, Германия) в сочетании с элементным анализатором (Thermo Flash 1112, Thermo Electron). Радиоуглеродный радиометрический (сцинтилляционный) анализ применялся для датирования костных остатков в лаборатории изотопных исследований ЦКП «Геоэкология» на базе РГПУ им. А.И. Герцена. Подготовка образцов и синтез бензола проводились по стандартным процедурам, в качестве сцинтиллирующего материала использовались 2,5-дифенилоксазол (ppo) и шифтер 2-фенилоксазолил-бензол (POPOP). Радиоуглеродная активность в бензоле измерялась при помощи низкофонового жидкостного сцинтилляционного счетчика Quantulus 1220 (Wallac). Даты, полученные по коллагену костей памятника Бай-Кият 1 попадают в интервал 14-11 вв до н.э., для памятника Долгий Бугор в 11-3 вв. до н.э. [1].
Реконструкции мест локального проживания и места рождения с использованием 87Sr/86Sr сигнатур в археологическом остеологическом материале проводились как для людей, так и для домашних животных на исследуемых памятниках [2]. Крымский полуостров является интересным тестовым полигоном для таких исследований, поскольку он характеризуется разнообразной геологической обстановкой на сравнительно небольшой территории. Изотопные измерения стронция проводились на многоколлекторном масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой (MC-ICP-MS) Neptune Plus в Институте геологии и геохимии им. академика А.Н.Заварицкого, Екатеринбург. Первые проведенные исследования изотопного состава свинца (Pb-Pb) бронзовых и медных артефактов из памятников северо-западного Крыма позволили сделать предположение о возможных источниках рудного сырья и различных металлургических центрах, из которых произошли металлические предметы, найденные на территории Крыма. Измерение изотопного состава свинца и содержания Pb проводилось на многоколлекторном масс-спектрометре Triton TI в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург.
Статья выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-00065- продление)
1. M.A. Кулькова и др. Поволж.Арх., 4(50), 104-119, (2024)
2. M.A. Kulkova et al. Minerals. 14(4) 410 (2024)Speaker: Марианна Кулькова (Российский Государственный университет им.А.И.Герцена) -
327
Роль модельных подходов в развитии технологий стерилизации палеонтологических объектов
Костные останки древних животных служат важным источником новых знаний в палеонтологии, биологии, микробиологии и других областях науки. Обеспечение их долговременной и безопасной сохранности играет ключевую роль при их изучении. Костные останки извлекаются из вечномерзлых грунтов и могут сопровождаться древними бактериями и вирусами [1]. Одним из перспективных методов стерилизации костной ткани является технология комбинированной радиационной стерилизации, при которой перед облучением применяется обработка озоном [2]. Такой подход позволяет снизить дозу облучения и сохранить структуру кости, что крайне важно для хрупких древних костных останков.
На первом этапе комбинированной стерилизации необходимо обеспечить проникновение озона во внутреннюю пористую структуру кости. Математическое моделирование может служить важным инструментом в оптимизации этой процедуры. Моделирование позволяет выявить важнейшие параметры обработки озоном и наиболее оптимальные условия. Более того, математическое моделирование позволяет нам избегать проведения множества реальных экспериментов, что сокращает временные затраты и сохраняет образцы костей. В данной работе рассматривается процесс инфильтрации озона в костную ткань. Математическая модель описывается связанной системой уравнений потока и транспорта. Из-за многомасштабной природы пористой структуры кости численное моделирование процесса инфильтрации представляет вычислительные трудности. Поэтому предлагается подход мультиконтинуального моделирования, основанный на методе мультиконтинуальной гомогенизации. Решаются задачи ячеек ограничений в областях с избыточной выборкой для уравнений потока и транспорта. Решая задачи ячеек, получаем мультиконтинуальные разложения и выводим соответствующие мультиконтинуальные уравнения. Для проверки полученной мультиконтинуальной модели проводим численные эксперименты в различных многомасштабных пористых структурах. Численные результаты демонстрируют высокую точность нашего мультиконтинуального подхода. Однако математическое моделирование инфильтрации озона в костную ткань является вычислительно сложной задачей. Основная сложность заключается в пористой структуре костных тканей, характеризующейся высокой неоднородностью и многомасштабными особенностями [3]. Кость характериизуется наличием развитой системы внутрикостных пространств. Для точного моделирования инфильтрации озона необходимо использовать мелкие вычислительные сетки, что значительно увеличивает вычислительные затраты. Учитывая, что процесс инфильтрации газа обычно описывается математическими моделями сопряженного потока и транспорта, затраты могут стать еще выше.
В работе получены новые оценочные результаты изменений коллагеновых структур в мамонтовой кости при различных воздействиях. Математическая модель описывает изменения межмолекулярных взаимодействий коллагена при воздействии радиации. Проведенные расчеты показывают, что при увеличении радиационного воздействия увеличиваются расстояния между волокнами коллагена, что может рассматриваться как один из возможных физических механизмов деградации коллагена с ростом дозовой нагрузки, что согласуются с данными других авторов. Модельные расчеты хорошо коррелируются с результатами, полученными с помощью атомной силовой микроскопии.
Ключевые слова: костная ткань, система внутрикостных пространств, перфорированные среды, высокий контраст, связанный поток и транспорт, мультиконтинуум, гомогенизация, коллаген, радиация, мамонт, радиационная стерилизация.Список использованных источников и литературы
- Janet K Jansson and Neslihan Tas. The microbial ecology of permafrost. Nature Reviews Microbiology, 12(6):414–425, 2014.
- Nadezhda Nikolaeva, Vladimir Rozanov, Alexander Chernyaev, Igor Matveychuk, and Milena Makarova. The influence of combined sterilization factors on the structural and functional characteristics of bone implants. International Journal of Molecular Sciences, 24(19):14426, 2023.
- Pedro Goncalves Coelho, Paulo Rui Fernandes, and Helder Carric¸o Rodrigues. Multiscale modeling of bone tissue with surface and permeability control. Journal of Biomechanics, 44(2):321–329, 2011.
Speaker: Надежда Николаева (СВФУ имени М. К. Аммосова, Якутск, Россия) -
328
Analysis of 234U/238U ratio by ICP-MS
$ICP-MS$ method has been used for analyses [1] of the elemental and isotope composition (64 elements) of bones of dinosaurs, South mammoths, prehistoric bear and archanthropus as well as the samples of surrounding soils; everything collected in different parts of Uzbekistan. A high concentration of uranium we detected in the bones of dinosaurs (122mg/kg), South mammoth (220mg/kg), prehistoric bear (24mg/kg) and archanthropus (1.5mg/kg) compared to surrounding soils (3.7-7.8 mg/kg) and standard bones (<0.01mg/kg) was established. The standart ratio $^{235}U/^{238}U = 0.007$ was detected for all samples. It was also observed that the $^{234}U/^{238}U$ ratio (Table) differ from $^{234}U/^{238}U = 5.4\times 10^{-5}$ secular equilibrium value. In this report the various mechanisms responsible for this difference are discussed.
Table. Data on uranium isotope ratios, detected by $ICP-MS$ with $1-SD$ errors in prehistoric bones, standard bone, and soils collected around these bones.
Sample $\hspace{0.5cm}$ $^{234}U/^{238}U\times 10^{-5}$ $\hspace{1cm}$ $^{235}U/^{238}U\times 10^{-3}$
MB1 $\hspace{1.4cm}$ 16.0±0.6 $\hspace{3cm}$ 7.4±0.2
SMB1 $\hspace{1.4cm}$ 11±1 $\hspace{3.4cm}$ 7.5±0.2
MB2 $\hspace{1.5cm}$ 9.5±0.2 $\hspace{3.1cm}$ 7.5±0.2
SMB2 $\hspace{1.3cm}$ 8.4±0.4 $\hspace{3.1cm}$ 7.6±0.2
BA $\hspace{1.8cm}$ 8.1±0.2 $\hspace{3cm}$ 7.2±0.2
BB $\hspace{1.8cm}$ 7.7±0.3 $\hspace{3cm}$ 7.4±0.2
DB $\hspace{1.8cm}$ 7.1±0.4 $\hspace{3cm}$ 7.2±0.2
SDB $\hspace{1.6cm}$ 7.2±0.3 $\hspace{3.1cm}$ 7.5±0.2
STB $\hspace{1.6cm}$ 7.2±0.5 $\hspace{3.1cm}$ 7.5±0.2
SSTB $\hspace{1.4cm}$ 10.6±0.3 $\hspace{3cm}$ 7.4±0.2MB1& & SMB1 – South mammoth bone found in Angren and soil collected near this bone respectively; MB2& SMB2 - South mammoth bone found in Kashkadari and soil collected near this bone respectively; BA-arhantrope bone; BB – bone of bear from Selungur cave; DB& SDB – Dinosaur bone and soil collected near this bone respectively; STB & SSTB – standard bone and soil collected near the standard bone. The natural abundance ratio of the isotopes $^{235}U/^{238}U$ is $0.007257$, secular equilibrium ratio $^{234}U/^{238}U$ is $5.4\times 10^{-5}$ .
[1] I.N. Izosimov, et al., Czech Chemical Society Symposium Series, 20, 116(2022).
Speaker: Igor Izosimov (Joint Institute for Nuclear Research) -
329
Вариации приборного фона 1220 Quantulus и их влияние на результаты радиоуглеродного датирования
Жидкостно-сцинтилляционный (ЖС) метод в радиоуглеродном датировании постепенно теряет свою актуальность на фоне внедрения ускорительной масс-спектрометрии. Однако ЖС счётчики всё ещё распространены, а даты, полученные таким методом, широко используются в четвертичной геологии и археологии. При этом, достоверность конечных радиоуглеродных дат на границе метода часто вызывает сомнения. Одной из причин искажения возраста является нестабильность приборного фона. В процессе измерений исследуемых образцов помимо импульсов от β-распадов 14С регистрируются фотоны, связанные с космическим излучением [1], излучением радиоактивных примесей, содержащихся в материале защитной камеры и конструктивных деталях счетчиков [2]. Таким образом собственная активность образца увеличивается на величину активности фона, которую при расчете радиоуглеродного возраста вычитают из общей суммы импульсов. Многократные измерения на ЖС спектрометре 1220 Quantulus показали низкие колебания активностей образцов не содержащих 14С, тем не менее они внесли существенные изменения в возраст ископаемого угля в сторону его омоложения.
В данной работе мы демонстрируем данные активностей образцов не содержащих 14С. На основе многочисленных измерений показываем колебания приборного фона и рассматриваем возможные причины его нестабильности. Приведены возрастные вариации предельного образца, синтезированного из ископаемого угля, которые подтверждают влияние колебаний фоновой активности на расчетный возраст.Speaker: Валерия Цыганкова (СВКНИИ ДВО РАН) -
330
Изучение методами рамановской спектроскопии-микроскопии кинетики старения иконной доски из липы
Липа является лучшим по своим качествам сортом древесины, произрастающей в условиях умеренного климата для иконописи. Древесина липы однородная, мягкая, обладает малой плотностью и, следовательно, весом, что немаловажно в жизненном цикле иконы. При бережном отношении икона сохраняется долгие годы. Анализ физико-химического состояния древесной основы старинных икон лежит в основе проблемы консервации и реставрации исследуемого объекта. В данной работе с использованием камеры искусственного старения с температурным воздействием изучена кинетика изменения состава (целлюлоза/лигнин и примеси) и структуры образцов древесины-липы. На микроскопическом уровне понимание структуры клеток является ключом к оценке того, что происходит с доской, когда древесина стареет. Анализ образцов проводили на рамановском микроскопе-спектрометре “BRUKER” с возбуждением лазером с длиной волны 785 нм. Для получения надежных и химически значимых результатов анализа био-спектральных данных было принципиально важно применять хемометрические методы [1]. Процедура предобработки спектров включала в себя: 1) нормировку спектров; 2) корректировку базовой линии; 3) сглаживание спектров. Произведено сокращение пространства признаков массива спектральных данных методом главных компонент. Для качественной работы с моделью использована дополнительная опция – к-фолд кросс-валидация. Было произведено сравнение 6ти методов классификации на экспериментальных данных. Для статистической характеристики работы моделей на основе матрицы ошибок рассчитаны такие параметры, как F-мера и средняя точность (accuracy), полнота, ROC-кривые. В соответствии с рассчитанными величинами 3 модели, а именно методы ближайшего соседа (kNN), рандомный лес (RandomForest) и наивный байес (NaiveBayes) демонстрируют высокую оценку качества модели. Проведенный анализ методами хемометрики позволил выявить кинетику изменения состава целлюлоза/лигнин, а также дал возможность определить кинетику изменения индекса кристалличности целлюлозы [2]. Температурная зависимость полученных констант дает возможность оценить энергию активации отдельных процессов изменения состава/структуры липы при старении.
Работа выполнена в рамках программы сотрудничества между Государственной Третьяковской галереей с МФТИ, ФИЦ ХФ РАН. Работа поддержана грантом РНФ 25-78-20011
Литература:
1. L. M. Camilo et al., Nature protocols. 15, (2020).
2. U. P. Agarwal et al., Cellulose. 7, (2010).Speaker: Анна Михайлова (ФИЦ ХФ РАН)
-
326
-
13:00
Обед
-
14:00
Экскурсионная программа на комфортабельном теплоходе Причал
Причал
Университетская набережная 13
-
-
-
0. Plenary Лекторий Института Истории (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Лекторий Института Истории
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Plenary
Convener: Григорий Александрович Феофилов (Санкт-Петербургский государственный университет)-
331
The new underground neutrino observatory opens a new page in multidisciplinary neutrino research
The completion of the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) construction is good news for the entire society of neutrino physics. Data taking is started in February 2025 during the water-filling phase, the operation with full liquid scintillator is expected in the second half of 2025.
The JUNO detector has a spherical ultra-low background 20 kt liquid scintillator target shielded from external background by 700 m underground location and cylindrical 30 kt ultra-pure water pool playing a role of active muon veto.
JUNO’s primary goal is to determine the neutrino mass ordering with an expected significance of 3–4 sigma in about six years and to measure 3 neutrino oscillation parameters to sub-percent precision. The phenomenon will be observed by resolving of the fine structure in the energy spectrum of oscillating reactor electron antineutrinos. The spectrum is measured with the energy resolution of 3% at 1 MeV. The antineutrino flux is emitted from 8 nuclear reactors at a baseline of about 52.5 km.
To tune the reconstruction of antineutrino spectrum in JUNO, the satellite small JUNO-TAO reactor antineutrinos spectrometer will provide the reference spectrum with extremely precise resolution of 2% at 1MeV (1.5% statistical uncertainty).
JUNO assumes a rich program of scientific research with neutrinos from different natural sources, such as the atmosphere, Earth, Sun and supernova explosion.Speaker: Maxim Borisovich Gromov (SINP MSU; JINR) -
332
TAO detector as a unique antineutrino spectrometer for fundamental and applied research
In the 90s of the XX century, it was experimentally proved that antineutrino spectrometers based on liquid scintillators can monitor the power of a nuclear reactor and the isotopic composition of a burning fuel. These capabilities provide a complementary way of nuclear power plant reactor monitoring with respect to the standard methods. Moreover, such capability offers a promising tool for studying the dynamics of fuel burnout and changes in its isotopic composition in experimental industrial reactors of the 4th generation.
The Taishan Antineutrino Observatory (TAO) is a compact liquid-scintillation antineutrino spectrometer created as a satellite experiment of the Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO). To tune the reconstruction of antineutrino spectrum in JUNO the TAO detector will provide the reference reactor spectrum with extremely precise resolution of 2%@1MeV (1.5% statistical uncertainty). TAO is located at a baseline of 44 m from the reactor core of one of the twins EPR Taishan 4.6 GWth reactors (Taishan, Guangdong Province, China). The detector is under commissioning now. The start of data taking is scheduled for the July 2025.
Unprecedented energy resolution of TAO-detector is expected due to over 90% of scintillation light collection, symmetrical construction, low temperature scintillator and cooled photo sensors together with comprehensive active and passive shielding and fast original Front-End and DAQ electronics and software. Ten square meters of SiPM photons sensors with more than 50% photon detection efficiency observe the spherical volume of cooled liquid scintillator with 4500 photoelectrons per MeV light yield in TAO. SiPMs dark current rate is suppressed by 3 orders of magnitude due to operation at minus 50 degrees Celsius. The detector will capture about 2000 reactor antineutrinos within the fiducial volume per day via Inverse Beta Decay (IBD) reaction. It is designed to be well shielded from cosmogenic and ambient backgrounds to have the background-to-signal ratio better than 10%. The unprecedented spectral properties allow to use the TAO detector as a unique instrument for fundamental and applied research. The combination of most modern technologies together with big experience from previous experiments such as Daya Bay, BOREXINO, iDREAM used in TAO opens the new generation of liquid organic scintillation detectors.Speaker: Alexander Sergeevich Chepurnov (SINP MSU) -
333
Study of neutrino oscillations with accelerator and atmospheric neutrinos
The current status of the neutrino oscillations will be revived in the talk. An emphasis will be put on a search for CP violation in the leptonic sector of the Standard Model and measurements of the CP violating phase \delta_CP. The results obtained with accelerator neutrinos in the long baseline experiments T2K and NOvA, as well as measurements with atmospheric neutrinos in the SuperKamiokande experiment will be presented. The recent progress in the study of the neutrino mass ordering will be discussed. Further perspectives of the current oscillation experiments will be briefly outlined. The next generation neutrino experiments HyperKamiokande and DUNE have a very extensive scientific program with the main goal of discovering of CP violation and measuring of \delta_CP. Both experiments can also determine the neutrino mass ordering. The current status, progress, and prospects in construction and commissioning of HyperKamiokande and DUNE with neutrino beams will be presented.
Speaker: Yury Grigorievich Kudenko (INR RAS) -
334
Прецизионные исследования распада нейтрона и физика фундаментальных взаимодействий
Результаты последних наиболее точных экспериментальных данных распада нейтрона, проведённые на уровне точности 10$^{-3}$ не могут быть описаны в рамках СМ (отклонение выходит за пределы 3-х стандартных отклонений). Прецизионные измерения сверхразрешённых 0+- 0+ ядерных переходов, позволяющие определить матричный элемент V$_{ud}$ указывают на расхождение с унитарностью в матрице СКМ (расхождение на уровне 2.4 стандартных отклонений). Вместе с тем, экспериментальные данные успешно описываются в рамках лево-правой модели и указывают на существование смешанного состояния W$_R$ и W$_L$ c параметрами δ=(M$_1$/M$_2$)$^2$=0.070±0.010 и углом смешивания ζ = -0.039±0.014. Более детальный анализ лево-правой модели с включением в неё СР-нарушения позволяет описать в пределах имеющейся точности эффекты СР-нарушения в нейтральных К-мезонах и D-мезонах, используя параметры, которые извлечены из нейтронного распада. Оказалось, что знаки барионной и лептонной СР-нарушающей асимметрии разные, что, по-видимому, связано с разными знаками барионной и лептонной асимметрией Вселенной.
Speaker: Анатолий Павлович Серебров (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ)
-
331
-
11:00
кофе-брейк
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Alla Demyanova (NRC "Kurchatov Institute")-
335
Study of short living isotopes of $^{5,7}$He and $^7$H emitted in the spontaneous ternary fission of $^{252}$Cf
he $^7$H nucleus is the most mysterious nuclear system in the nuclear chart which is hard to access in experiment. Therefore the experimental data are insufficient and sometimes are ambiguous. For now, there are evidences for relatively low energy of $^7$H the ground state.
As well there are theoretical estimates of the energy of the ground state. The expected mode of the decay is the democratic decay $^7$H$\rightarrow ^3$H$+ 4n$ with simultaneous emission of four neutrons. The estimated lifetime of $^7$H is about 1-100 KeV. It is shown in Ref.[1] that data on the ternary fission of $^{252}$Cf give information on population of resonance states in $^5$He and $^7$He, providing data on the decay widths. In this work it is shown that the predicted lifetime is in the region of availability of the method suggested in Ref. [1] and the $^7$He state is actively populated in the ternary fission. We calculate the values of observables for different sets of the excitation energy $E^*$ and width $\Gamma$ for $^7$H. It is shown that one can expect the evidence of population of the long-living $^7$H states in the low energy region of the $^3$H spectra which is still unable for observation. Thus we suggest the way for studies of the decay characterisctics of the $^7$H ground state. The evidences of the $^7$H decay might be observed both in the energy spectra of $^3$H and the angular correlations of the neutrons accompaning the decay of $^7$H. Thus using this method it is possible to investigate population of $^7$H hard accessible in the accelerated beam technique.- Yu. N. Kopatch et al., Phys.Rev. C 65(2002), 044614
Speaker: Yulia Parfenova (Joint Institute for Nuclear Research, Flerov Laboratory of Nuclear Reactions) -
336
Deformed nuclear shells in mass and energy distributions of fission fragments of 236U* compound nucleus in 232Th(α,f) reaction at alpha particle energy near the coulomb barrier
Deformation of nucleus has a significant influence on nuclear shells changing them and replacing traditional spherical closed shells with deformed ones. Actinide nuclei are not spherical in their ground state, excitation and fission deforms them further. The effects of deformed nuclear shells are most pronounced in mass and energy distributions of fission fragments of excited nuclei. But excitation energy of nucleus should not be too high because it will then lead to charged liquid droplet effects dominating over deformed nuclear shells and displacing them. That is why to study presence and influence of deformed nuclear shells we measured mass and energy distributions of fission fragments of 236U* compound nucleus in 232Th(α,f) reaction at incident alpha particle energies of 24 and 29 MeV which is lower and at coulomb barrier for this reaction. Measurements were carried out with 2E method at U-150M accelerator at the Institute of Nuclear Physics, Almaty city, Kazakhstan. Acquired mass and energy distributions were decomposed into yield of separate fission modes with sensitive decomposition method taking into account deformed nuclear shells. The results show influence of deformed nuclear shells Z52, N84, N88 and influence of excitation energy on mass and energy distributions of fission fragments.
Speaker: Andrey Pan (Laboratory of Fission Physics, Institute of Nuclear Physics, Almaty) -
337
$\alpha$-decay study of the new neutron-deficient isotope $^{210}$Pa
Synthesizing new isotopes far from the line of $\beta$-stability and studying their decay properties is one of the frontiers in present-day nuclear physics. However, mapping the boundaries of nuclear landscape is exceptionally challenging due to the tiny production cross sections and short half-lives of nuclei. In this work, the fusion-evaporation reaction $^{40}$Ca+$^{175}$Lu aimed at synthesizing new neutron-deficient protactinium isotopes was investigated at the newly constructed China Accelerator Facility for Superheavy Elements. The cross sections for the xn and pxn evaporation channels were measured. At a beam energy of 212 MeV, a new isotope $^{210}$Pa produced through the 5n evaporation channel was identified for the first time. The measured α-decay properties of $^{210}$Pa allow us to extend the $\alpha$-decay systematics and test the predictive power of selected theoretical models for the heavy nuclei near the proton drip line.
Speaker: Mingming Zhang (FLNR, Joint Institute for Nuclear Research)
-
335
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Aleksander Kuznetsov (Federal State Budget Educational Institution of Higher Education M.V.Lomonosov Moscow State University)-
338
Результаты измерения дифференциального сечения образования мгновенных гамма-квантов в реакциях быстрых нейтронов с ядрами железа
Представлены результаты измерения дифференциального сечения образования мгновенных гамма-квантов в неупругих взаимодействиях 14.5 МэВ нейтронов с ядрами железа. Измерения проведены в редакции интегральных экспериментов методом времени пролета на нейтронном генераторе НГ-150М, работающем в импульсном режиме, с использованием однокристального гамма-спектрометра со сцинтиллятором NaI(Tl) диаметром 15 см и высотой 10 см. Измеренные сечения представлены на сетке с шагом по энергии гамма-квантов 0.25 МэВ. Выполнено сравнение оцененных сечений из библиотек ENDF/B-V, ENDF/B-VI.8, ENDF/B-VII.1, ENDF/B-VIII.0 с результатами эксперимента.
Speaker: Валерий Гаганов (РФЯЦ-ВНИИЭФ) -
339
Activation measurements of multinucleon transfer cross sections in $^{48}$Ca+Au and $^{40}$Ca+Au reactions at energies near the Coulomb barrier
In this work presents the results of activation measurements of the cross sections for the formation of target-like fragments in multinucleon transfer (MNT) reactions in collisions of $^{48}$Ca and $^{40}$Ca nuclei with a $^{197}$Au target nucleus at energies close to the Coulomb barrier. The main attention is paid to the study of the effect of neutron excess in $^{48}$Ca on the characteristics of MNT reactions in comparison with the $^{40}$Ca isotope. The experiments were carried out by the method of activation analysis followed by γ-spectrometric determination of the cross sections of the reaction products [1]. The data obtained demonstrate differences in the probabilities of formation of target-like products in reactions with $^{40}$Ca and $^{48}$Ca projectiles, which indicates a significant effect of neutron excess on the dynamics of MNT processes near the Coulomb barrier. The presented results are compared with theoretical calculations [2][3] and discussed in the context of the mechanisms of nucleon transfer and the synthesis of neutron-rich nuclei [4].
Acknowledgements: This research has been funded by the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP19577048).
- Yu.E. Penionzhkevich et al., Eur. Phys. J. A 31, 185 (2007);
- Resource is based on the Program Grazing ver.9 (2005) code of Aage Winther;
- nrv.jinr.ru;
- A. K. Azhibekov et al., Eur. Phys. J. A (2023) 59:278.
Speaker: Aleksei Shakhov (Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Russia) -
340
Hot nuclei in collisions of light relativistic beams of the Nuclotron accelerator (JINR, Dubna) with a heavy target
The study of the multifragmentation process gives experimental information about the nuclear spinodal region. The experiment has been performed with the 4pi-setup FASA [1], installed on the external beam of the superconducting accelerator Nuclotron in Dubna.
The relative angle correlations of intermediate mass fragments have been studied for the 12C + Au collisions at 22 GeV. Strong suppression at small angles is observed which is due to the Coulomb repulsion of fragments. The experimental correlation function was compared to that obtained by the multibody Coulomb trajectory calculations via intranuclear cascade (INC) [2] followed by the statistical multifragmentation model (SMM) [3] with the various decay time of fragmenting system. It is found that the average decay time of fragmenting system is less than 59 ± 11 fm/c.
The kinetic energy spectra were measured and analyzed for d(4.4 GeV) + Au collisions. The analysis has been done via INC+SMM model. It was found good agreement of measured and calculated kinetic energy spectra including a radial flow. The flow velocity of the system decreases as the charge of fragment increases. It means that heavier fragments are formed predominantly in the interior of the fragmenting nucleus.
The source characteristics of multifragmentation are investigated at interaction of gold target with protons beam at 3.6 GeV. It was found that the system is at least in “kinetic equilibrium” prior to fragment emission.- V.V. Kirakosyan et al., Instr. and Exp. Techn. 51, No. 2, 159 (2008).
- V.D. Toneev et al., Nucl. Phys. A 519, 463 (1990).
- A.S. Botvina et al., Phys. of Atomic Nuclei 57, 628 (1994).
Speaker: Sergej Avdeyev (JINR) -
341
The search for unstable $\alpha$-particle states in fragmentation of relativistic medium and heavy nuclei
Since the discovery of the nuclear component of cosmic rays, the nuclear emulsion (NTE) method has been a powerful tool for studying the composition and fragmentation of relativistic nuclei at high-energy accelerators. The potential of this approach was first demonstrated in the 1970s using NTE layers exposed to beams of nuclei with energies of several GeV per nucleon, accelerated at the JINR Synchrophasotron and the Bevalac (USA). Since the 2000s, the NTE method has been further developed in the BECQUEREL experiment at the JINR Nuclotron, focusing on the cluster structure of nuclei, including radioactive isotopes, and the search for unstable nuclear-molecular states. Thanks to its exceptional sensitivity and spatial resolution, the NTE method provides a unified framework for analyzing a wide range of final states resulting from the dissociation of relativistic nuclei. This capability makes it particularly suitable for investigating exotic phenomena, such as the $\alpha$-particle Bose-Einstein condensate ($\alpha$BEC), an unstable S-wave state of $\alpha$-particles. For example, the short-lived $^8$Be nucleus is interpreted as a 2$\alpha$BEC, while the $^{12}$C(0$^+_2$) excitation, known as the Hoyle state (HS), is described as a 3$\alpha$BEC. The study of such states is not only fundamental to nuclear physics but also highly relevant to nuclear astrophysics.
By analyzing layers of NTE exposed to longitudinal beams of relativistic nuclei, it is possible to determine the invariant mass of ensembles of produced $\alpha$-particles using their emission angles under the assumption of initial momentum conservation per nucleon. This approach has been successfully applied to identify the decays of $^8$Be and the Hoyle state in nuclear fragmentation processes, based on upper limits of the invariant mass [1]. Furthermore, it has been used to search for more complex $\alpha$BEC states in the fragmentation of medium and heavy nuclei. In measurements of fragmentation involving nuclei ranging from oxygen to gold at energies spanning several to tens of GeV per nucleon, an increase in the probability of detecting $^8$Be has been observed as the number of associated $\alpha$-particles grows [2].The exotically large sizes and lifetimes of $^8$Be and the Hoyle state suggest a possible mechanism for the synthesis of $\alpha$BEC through the sequential coupling of $\alpha$-particles: 2$\alpha$ $\to$ $^8$Be, $^8$Be + $\alpha$ $\to$ $^{12}$C(0$^+_2$), $^{12}$C(0$^+_2$) + $\alpha$ $\to$ $^{16}$O(0$^+_6$), and 2$^8$Be $\to$ $^{16}$O(0$^+_6$). However, the probability of such processes decreases at each step due to the emission of $\gamma$-quanta or recoil particles. This report presents results on the contributions of $^8$Be(0$^+$), $^8$Be(2$^+$), $^{12}$C(0$^+_2$), $^{12}$C(3$^−$) [3], and the search for the $^{16}$O(0$^+_6$) – 4$\alpha$-particle condensate state [4] in the fragmentation of relativistic medium and heavy nuclei.References
1. D.A. Artemenkov $\textit{et al.}$, Eur. Phys. J. A $\textbf{56}$, 250 (2020).
2. A.A. Zaitsev $\textit{et al.}$, Phys. Lett. B $\textbf{820}$, 136460 (2021).
3. A.A. Zaitsev and P.I. Zarubin, arXiv:2411.18394 [nucl-ex].
4. D.A. Artemenkov $\textit{et al.}$, Phys. At. Nucl. $\textbf{85}$, 528 (2022).Speaker: Pavel Zarubin (JINR)
-
338
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics 2053 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
2053
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Владимир Жеребчевский-
342
Моделирование идентификационной способности вершинного детектора для эксперимента MPD на коллайдере NICA
Исследование сверхплотной ядерной материи, которое будет проводиться в эксперименте MPD на строящемся в Дубне коллайдере NICA, является актуальной задачей современной физики высоких энергий. Уникальными пробниками экстремальных состояний ядерной среды являются частицы, содержащие тяжелые кварки, к числу которых относятся очарованные D-мезоны. Эти частицы характеризуются малым временем жизни, и для реконструкции вершин их распада требуется вершинный детектор с высоким пространственным разрешением. Такой детектор планируется построить на основе монолитных активных пиксельных сенсоров, обладающих на сегодняшний день рекордным разрешением и быстродействием. В ходе компьютерного моделирования авторами была изучена идентификационная способность трековой системы MPD, включающей вершинный детектор и время-проекционную камеру, при реконструкции распадов D-мезонов, образующихся в центральных столкновениях ядер золота и висмута при энергиях коллайдера NICA. Для выделения сигналов D-мезонов в спектре по инвариантной массе продуктов их распада использован современный подход на основе искусственного интеллекта, включающий алгоритмы машинного обучения. Классификационный анализ проводился на основе BDT классификатора, формирующего деревья принятия решений. В качестве входных данных были взяты топологические параметры распада D-мезонов. Используя отклик классификатора на сигнальные и фоновые события, регистрируемые в трековой системе, оказалось возможным выделить сигнал на существенном комбинаторном фоне. Полученные оценки выходов D-мезонов гарантируют необходимый для физического анализа набор статистики в течение одного месяца непрерывной работы коллайдера.
Данное исследование было проведено при поддержке Российского научного фонда, проект № 23-12-00042, https://rscf.ru/en/project/23-12-00042/.Speaker: Валерий Кондратьев (Санкт-Петербургский государственный университет) -
343
Кремниевая трековая станция с системой потокового чтения как часть трековой системы BM@N
В рамках модернизации трековой системы установки BM@N для изучения тяжело-ионных взаимодействий на Нуклотроне была разработана и установлена новая трековая станция на основе трековых модулей типа CBM-BM@N [1]. Модуль состоит из двустороннего микрострипового кремниевого детектора с потоковой считывающей электроникой на основе микросхем STS-XYTER. Стрипы сенсора соединяются с каналами считывающей электроники при помощи сверхлёгких (0.23% Х0) гибких алюминиевых кабелей с применением линейной автоматической ультразвуковой сварки [2].
Характеристики трековых модулей и системы чтения были исследованы в ходе серии испытаний на ускорителе СЦ-1000 (ПИЯФ, Гатчина), были получены следующие результаты [3]:
• Максимальные загрузки – 360 кГц сек$^{-1}$ см$^{-2}$;
• Пространственное разрешение – 15,4 мкм;
• Соотношение Сигнал/Шум составило не менее 21;
• Эффективность регистрации для протонов с энергией 1 ГэВ составила 99 %.
• Максимальная частота работы в триггерном режиме составляет 78 кГц.
Новая трековая станция состоит из 6 модулей, установленных на тонкой текстолитовой рамке на расстоянии 7 см от мишени, и используется для реконструкции треков вторичных частиц совместно с четырьмя плоскостями FwdSi и семью плоскостями GEM детекторов.
Для интеграции скоростной потоковой системы сбора данных новой станции в триггерную систему сбора данных эксперимента BM@N, используется метод буферизации данных на базе ПЛИС устройств с последующим отбором событий на основе задаваемых параметров временного окна триггера.
1. D. V. Dementev, A. D. Sheremetev, M. O. Shitenkov et al., Physics of Particles and Nuclei Letters, vol. 21, № 4, pp. 919-927 (2024).
2. A. D. Sheremetev et al., Physics of Particles and Nuclei Letters, vol. 21, № 3, pp. 466-480 (2024).
3. D. Dementev et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Секция A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, vol. 1075, 170390 (2025)Speaker: Михаил Шитенков (Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина, Объединённый институт ядерных исследований) -
344
MPD-ITS current status
D mesons and the λ baryon are currently considered as one of the most perspective probes for search of quark de-confinement of the matter during its transition from a state of hadron gas to quark-gluon plasma. The tracking system of the MPD experiment at NICA collider will include the vertex silicon detector MPD-ITS designed for the efficient registration of these short-lived products of nuclear-nuclear interactions, to be built using Monolithic Active Pixel Sensors (MAPS) based on the MICA chip that is being developed in the framework of a dedicated Consortium that was born from the long-lasting collaboration between JINR and Chinese institutions lead by the Central China Normal University (Wuhan). The second prototype of such a chip is expected to be received at JINR by July 2025. The present status of the MPD-ITS project is reported here.
Speaker: Ekaterina Tsapulina (JINR) -
345
Data acquisition system of the highly granular time-of-flight neutron detector of the BM@N experiment at the NICA accelerator complex
The new high granular time-of-flight neutron detector (HGND) [1] is being developed for the BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) experiment to identify and measure neutrons energies in nucleus-nucleus collisions at ion beam energies up to 4 AGeV.
The detector structure, its layout at the BM@N and integration into the BM@N data acquisition system will be presented. The HGND consists of about 2000 scintillator detectors (cells) with a size of 40X40X25 mm^3 and with individual light readout with EQR15 11-6060D-S photodetectors .
At present, the fully functional 33-channel HGND prototype has been constructed. It features a readout system with a 100 ps FPGA-based TDC [2] (Time-to-Digital Converter), a time synchronization system based on White Rabbit, and utilities such as SiPM temperature and threshold control. The functionality, geometry and construction layout of the prototype fully match the final HGND design. The prototype laboratory and beam tests will be discussed.[1] S. Morozov, et al., “The Highly-Granular time-of-flight Neutron Detector for the BM@N experiment”, Nucl.Instrum.Meth.A 1072 (2025) 170152, DOI: 10.1016/j.nima.2024.170152
[2] D. Finogeev, et al., “Development of a 100 ps TDC based on a Kintex 7 FPGA for the high granular neutron time-of-flight detector for the BM@N experiment”, Nucl.Instrum.Meth.A 1059 (2024) 168952, DOI: 10.1016/j.nima.2023.168952Speaker: Dmitry Finogeev (INR RAS)
-
342
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Владимир Вечернин (Санкт-Петербургский государственный университет)-
346
Emission of fragments in collisions of intermediate-energy heavy ions based on the non-equilibrium quantum hydrodynamic approach
In the development of the nonequilibrium hydrodynamic approach [1-3], we were able to successfully describe the double differential cross sections for the formati. on of cumulative protons and light fragments of deuterons and tritons emitted at an angle of 400 and studied in [4] for the collision of carbon nuclei in the reaction 12C+12C at an energy of 20 GeV per nucleon on a fixed target, obtained at the U-70 accelerator of the IHEP (Serpukhov). These double differential cross sections reveal scaling for the yields of various fragments depending on their energy
In continuation of the analysis of ITEP (Moscow) experiments on collisions of carbon nuclei with a beryllium target at the FRAGM setup, it was possible to obtain a description of the yields of 11Be and 10B fragments [5] emitted at an angle of 3.50 at an energy of carbon nuclei of 300 MeV per nucleon. In this description, a nonequilibrium hydrodynamic approach and the Goldhaber statistical model were used. Improvement of the agreement for describing the asymmetry of the momentum distribution of the fragment yield was achieved here using the Lifshitz-Slezov asymptot
ic profile function in the coalescence model. Our description of the experimental data turns out to be better than cascade models and the quantum molecular dynamics (QMD) model built into the GEANT4 package.In the development of the hydrodynamic approach, the possibility of describing experimental data based on the solution of the effective Klein-Gordon equation with dissipation [6] was analyzed, as well as the possibility of describing the polarization of emitted secondary particles [7]. Our approach is applicable to collisions of both light and heavy nuclei, which is evident from a comparison with experimental data and other theoretical approaches.
This can be extended to the energy range of the NICA accelerator complex being built at JINR (Dubna). Already the first comparison with experimental data on the distribution of protons, deuterons and tritons by transverse mass at the rapidity y=1.4 for the collision of argon nuclei at the energy of 3.2 GeV per nucleon with different nuclei in the BM@N experiment [8] turned out to be successful.
- A.T. D’yachenko, I.A. Mitropolsky, Phys. At. Nucl. $\bf 83$, 558 (2020).
- A.T. D’yachenko, I.A. Mitropolsky, Phys. At. Nucl. $\bf 85$, 1053 (2022).
- A.T. D’yachenko, Phys. At. Nucl. $\bf 87$, 125 (2024).
- N.N. Antonov et al., JETP Lett. $\bf 111$, 291 (2020).
- B.M. Abramov et al., Phys. At. Nucl. $\bf 85$, 466 (2022).
- A.T. D’yachenko, Phys. At. Nucl. $\bf 87$, 646 (2024).
- M. Baznat, O.V. Teryaev, A.V. Zinchenko, Phys. Part. Nucl. Lett. $\bf 20$, 428 (2023).
- S. Afanasiev et al. BM@N Collaboration, arXiv:2504.02759v1[hep-ex] 3 Apr. 2025
Speaker: Alexander D'yachenko (Petersburg Nuclear Physics Institute of NRC "Kurchatov Institute" and Emperor Alexander I Petersburg State Transport University) -
347
Azimuthal dependence of the fractional parton energy loss in Cu+Au collisions at √(s_NN) = 200 GeV
The state of strong interacting matter consisting of asymptotically free quarks and gluons is called a quark-gluon plasma (QGP). This state can be created in relativistic collisions of heavy ions [1]. High-energy partons (quarks and gluons) produced in hard interactions propagate in QGP and lose energy, after which they fragment into hadrons. This leads to the suppression of the hadron yields at high transverse momenta in nucleus–nucleus collisions compared to proton–proton collisions (jet quenching effect) [2].
In the experiment, it is possible to obtain estimates of the fractional parton energy loss Sloss, which is defined as the ratio of the parton energy loss to their initial energy. For this purpose, the measured invariant spectra of $π^0$-mesons in nucleus-nucleus and proton-proton collisions are used [3]. Therefore, the the transverse momentum $p_T$ and the number of participants Npart dependences of the Sloss can be measured. Using data on elliptic flows $v_2$, which make a dominant contribution to the azimuthal anisotropy of π0-mesons yields, it is possible to obtain the azimuthal dependence of the fractional parton energy loss $S_{loss}(Δφ)$ [3, 4]. The obtained dependences can be used to study the spatial distribution of various characteristics of QGP.
In this work, the azimuthal dependence of the fractional parton energy loss was measured as a function of $p_T$ and Npart in Cu+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 200 GeV.
The results of the work can be expanded for use in the MPD and SPD experiments at the NICA collider.
We acknowledge support from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, state assignment for fundamental research (code FSEG-2025-0009).- Adcox K. et al., Nuclear Physics A 757, 184-283 (2005).
- Enterria, D., Nuclei and Atoms, 471-520 (2010).
- Adler S.S. et al., Phys. Rev. C 76, 034904 (2007).
- Voloshin S., Zhang Y., Z. Phys. C 70, 665-672 (1996).
Speaker: Kirill Basirov (Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Saint-Petersburg, Russia) -
348
Measurement of neutron yields in the Xe+CsI reaction by the Highly Granular time-of-flight Neutron Detector prototype in the BM@N experiment
One of the goals of the BM@N experiment is to study the equation of state (EoS) of dense nuclear matter in heavy-ion collisions with energies up to 4.65A GeV. The EoS includes a symmetry energy term that characterises the isospin asymmetry of nuclear matter, which is important for studying the properties of astrophysical objects such as neutron stars. The neutron to proton ratio and the neutron-proton differential directed flow in Au-Au collisions were found sensitive to the contribution of symmetry energy to the EoS[1]. Measuring the energy distributions of neutrons produced in projectile fragmentation allows estimation of the temperature of the emitting source [2]. While the proton yields are measured by the BM@N magnetic spectrometer the neutron yields in heavy ion collisions will be measured by the Highly Granular time-of-flight Neutron Detector (HGND) which is currently under development [3].
The HGND has multilayer longitudinal structure with alternating absorber and highly granular scintillator detectors (11×11) layers. Each of the 4×4×2.5 cm³ scintillator detectors with individual light readout by SiPM (MPPC) provides a time resolution of about 150 ps. The HGND will provide the capability to measure neutrons with kinetic energies of 0.3–4 GeV by time-of-flight with high detection efficiency.
To validate the concept of the full-scale HGND the compact HGND prototype was designed and built [4]. The prototype has a longitudinal segmentation into 15 alternating layers of absorber and scintillator with a transverse segmentation of scintillator layers as a matrix of 3×3 scintillation cells with a size of 4×4×2.5 cm³. The first scintillator layer is used as a veto for charged particles. The total length of the detector is about 2.5 nuclear interaction lengths, which allows efficient neutron detection. The light readout from each scintillator detector is realised by individual Hamamatsu S13360-6050PE MPPCs. The time and amplitude of the signal are read by the TQDC modules.
The HGND prototype was first tested in the BM@N experiment in collisions of 3.8A GeV Xe with a CsI target. The detector was placed in 0 degrees position during the measurements to test and calibrate by measuring spectator neutrons and neutrons from electromagnetic dissociation (EMD). The neutron kinetic energy spectrum reconstructed by time-of-flight is compared with the Geant4 simulations in the full geometry of BM@N setup using the DCM-QGSM-SMM and UrQMD-AMC models as heavy-ion collision generators and using the RELDIS model as EMD events generator. The neutron yields in the HGND prototype acceptance were obtained by correcting for model-estimated efficiencies for central and semi-central collisions and for EMD.- X.-X. Long, G.-F. Wei, Phys. Rev. C, 109, 054619 (2024).
- P. Pawłowski et al., Phys. Rev. C, 108, 044610 (2023).
- F. Guber et al., Experiment. Instrum. Exp. Tech., 67, 447–456 (2024).
- A. Zubankov et al., arXiv:2503.12624 [physics.ins-det] (2025).
Speaker: Aleksandr Zubankov (Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences) -
349
Reactions dd → dd$\pi\pi$ and pd → pd$\pi\pi$ and isoscalar dibaryons
At present the resonance peak $D_{IJ} = D_{03}$ observed by WASA@COSY in the total cross section of the reaction of two-pion production in the isoscalar channel of the reaction pn → d$\pi^0\pi^0$[1], is considered as one of the most realistic candidate to the dibaryon resonance [2]. Here I=0 is the isospin and $J^P=3^+$ is the total angular momentum and parity of this resonance. A similar resonance structure was observed by ANKE@COSY in the differential cross section of the two-pion production reaction pd → pd$\pi\pi$ at beam energies 0.8-2.0 GeV with high transferred momentum to the deuteron at small scattering angles of the final proton and deuteron [3]. In this case the kinematic conditions differ considerably from that in Ref. [1] and two final pions not detected and, therefore, the isoscalar channel was not separated. Nevertheless, in the distribution over the invariant mass $M_{d\pi\pi}$ of the final $d\pi\pi$ system of the reaction pd → pd$\pi\pi$ the resonance peak was also observed at $M_{dππ}$ ≈ 2.38 GeV [3] that is the mass of the isoscalar two-baryon resonance $D_{03}$. In order to explain these data, in Refs. [4] the two-resonance model [5] of the reaction pn → d$\pi^0\pi^0$ was applied by inclusion of the t-channel σ-meson exchange between the proton and deuteron in the reaction pd → pd$\pi\pi$. Recently in Ref. [6] the reaction γ d→ d$\pi^0\pi^0$ was studied and an indication to excitation of isoscalar dibaryon resonance $D_{03}$(2380) and more heavier dibaryons d(2470) and d(2630) was found. These resonances can be excited also in the reaction dd→ dd* at SPD NICA collider. In this work we estimated the differential cross sections of the reactions dd → n+pd$\pi\pi$ (with pd → pd$\pi\pi$ subprocess) and dd → dd$\pi\pi$ assuming excitaion of the dibaryons by σ- meson exchange in t-channel as in Refs. [4] and distributions over the invariant mass of the final d$\pi\pi$ system for these reactions were calculated.
[1] P. Adlarson et al. (WASA@COSY Collab.), Phys. Rev. Lett. 106, 242302 (2011).
[2] H. Clement, Prog. Part. Nucl. Phys. 93 (2017) 195.
[3] V. I. Komarov et al. (ANKE@COSY Collab.), Eur. Phys. J. A (2018) 54: 206;
arxiv:1805.01493 [nucl-exp].
[4] Yu. Uzikov, N. Tursunbayev, EPJ Web of Conf. 204, 08010 (2019);
N. Tursunbayev, Yu. Uzikov, SciPost Phys. Proc. 3 (2020) 056.
[5] M.N. Platonova, V.I. Kukulin, Phys. Rev. C 87, 025202 (2013).
[6] T.C. Jude et al., Phys. Lett. B 832 (2022) 137277.Speaker: Yuriy Uzikov (Joint Institute for Nuclear Research)
-
346
-
12:50
Обед
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Владимир Руднев (Санкт-Петербургский государственный университет)-
350
Moment of inertia in the ground band of even-even nuclei
$\quad$ Based on fundamental studies [1,2], a phenomenological model was proposed [3], which takes into account Coriolis mixing of the ground (gr), $\beta$ -, $\gamma$ - vibrational, and $K^\pi=1^+$ bands. It was shown that the mixing effect is strongly manifested in the energy levels of the $\beta$ - and $\gamma$ - band and leads to significant deviations from the adiabatic theory of interband transitions from the $\beta$ - and $\gamma$ - band levels.
$\quad$ Deviations from the adiabatic theory in the energies of the ground-state band are observed at high spins, which is associated with its mixing with other rotational bands. In the first-order approximation of perturbation theory, the Coriolis force mixes the states of the ground band with levels of bands that possess specific quantum characteristics. To date, such states have been experimentally identified in many even-even nuclei, with excitation energies of approximately $E_1 \approx 2.5$ MeV.
$\quad$ In this work, to study the moment of inertia and the energy levels of the ground rotational band, we use the two-parameter Harris formula [2] and a phenomenological model [3], taking into account only the Coriolis mixing between the ground band and experimentally known bands. This model framework provides a more accurate description of the rotational energy spectrum of the ground band beyond the rigid rotor approximation.
$\quad$ Calculations were performed for even isotopes of $^{222-232}\rm{Th}$, $^{232}\rm{U}$, $^{236-246}\rm{Pu}$, $^{242-248}\rm{Cm}$, $^{248-250}\rm{Fm}$, and $^{252-254}\rm{No}$. Theoretical predictions are systematically compared with available experimental data and with the results of previous models [4,5]. The comparison, presented in Figure 1, shows that the theoretical values obtained from our model are in good agreement with experimental results, especially regarding the effective moment of inertia. This agreement confirms the validity and reliability of the proposed model in describing the collective behaviour of the nuclei under study.
$\quad$ In the future, this work can be extended by including additional interaction terms or by applying the approach to a broader range of isotopes.
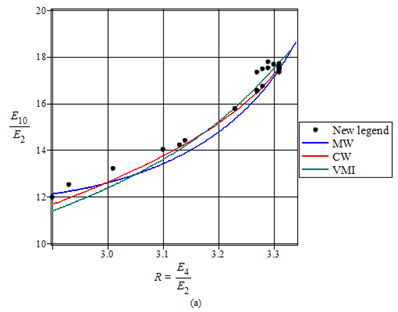
Fig. 1, the ratio E10/E2 as a function of E4/E2. It shows the comparison between the current work (CW), the variable moment of inertia VMI (Mariscotti et. al. 1969), the work in ref. [5] and the experimental work.- Bohr A. and Mottelson B.R. 1997. Nuclear Structure. vol. 1,2 (NewYork:Benjamin)
- Harris S.M., Phys. Rev. 138, B509 (1965).
- Usmanov, P.N., Okhunov, A. A., Salikhbaev, U.S. and Vdovin, A.I. Phys. Part. Nucl. Lett. 7, 185 (2010).
- Usmanov, P. N., Okhunov, A. A., & Abu El Sheikh, M. Kh. M. (2022). The effect of the quantization of the centrifugal stretching on the analysis of the rotational spectra of even-even nuclei. Sains Malaysiana, 51(4), 1213–1227.
- Mariscotti, M.A.J., Scharff-Goldhaber, G. & Buck, B. 1969. Phenomenological analysis of ground state bands in even-even nuclei. Physical Review 178(4): 1864-1887.
- https://doi.org/10.17576/jsm-2022-5104-21
Speaker: Pazlitdin Usmanov (Namangan State Technical University, Namangan, Uzbekistan) -
351
Изучение низколежащих ротационных состояний четно-четных ядер
$\quad$ В работах [1,2] для изучения свойства ротационных состояний деформированных ядер была предложена феноменологическая модель, рассматривающая кориолисово смешивание низколежащих коллективных состояний положительной четности. Собственные значения и волновые функции состояний были получены путем диагонализации матричного Гамильтониана модели, используя численные математические методы.
$\quad$ В данной работе энергия и структура волновых функций состояний основной (gr) $\beta$ -, $\gamma$ - вибрационных и полос определялись по теории возмущения учитывая высокие порядки поправок к энергиям и волновым функциям.
$\quad$ Конкретные расчеты были проведены для деформированных ядер редкоземельной и трансурановой области. Вычислены энергия и структура состояний ротационных полос положительной четности. Результаты, полученные по теории возмущения, сравниваются со значениями, определенными методом численной диагонализации, которые дают очень хорошие согласия при низких значениях спина, а при высоких наблюдается небольшое различие.
$\quad$ Аналитические формулы для вероятностей монопольных переходов, полученные с помощью волновых функций определенных по теории возмущения, позволяют определить некоторые энергетические параметры модели из экспериментальных данных для вероятностей В(Е0).
$\quad$ В таблице для изотопов $^{182}\rm{W}$ приведены значения энергии основной (gr), $\beta$ - и $\gamma$ - полос вычисленные численным методом диагонализации (теор.1) и по теории возмущения (теор.2), которые сравниваются с экспериментом [3].
- P.N. Usmanov, I.N. Mikhailov // Phys. Part. Nucl. 1997. V.28. P.348.
- P.N. Usmanov, A.I. Vdovin, E.K. Yusupov, U.S. Salikhbaev // Phys. Part. Nucl. Lett. 2019. V.19. P.706.
- S. Balraj // Nuclear Data Sheets. 2015. V.130. Р. 21.
Speaker: Пазлитдин Усманов (Наманганский инженерно-технологический институт, Узбекистан) -
352
Эмпирическая систематика вероятностей испускания длиннопробежных альфа-частиц в спонтанном делении тяжелых и сверхтяжелых ядер
В приблизительно $0.3\%$ случаев спонтанного или индуцированного тепловыми нейтронами деления тяжелых ядер наблюдается испускание легких заряженных частиц. В большинстве таких событий тройного деления эти частицы представляют собой ядра $^{4}$He, которые, в силу большой кинетической энергии, называют длиннопробежными альфа-частицами [1]. В данной работе исследуется эмпирическая систематика вероятностей испускания длиннопробежных альфа-частиц $P_\mathrm{LRA}$ при спонтанном делении тяжелых и сверхтяжелых ядер по отношению к бинарному делению. Обсуждаются корреляции $P_\mathrm{LRA}$ с параметром делимости $Z^2/A$ [2], линейной комбинацией протонного и массового чисел $4Z-A$ [1] и обратной величиной квадратного корня из энергии выхода $\alpha$-частиц $Q_\alpha^{-1/2}$ [3]. Предложен новый эмпирический подход, основанный на концепции двухэтапного процесса деления с образованием тройной системы из бинарной [4]. На основе имеющихся экспериментальных данных [5-7] получена эмпирическая формула для вероятности $P_\mathrm{LRA}$ как линейной функции $Q_\alpha$ делящегося ядра. Установлено, что использование моделей, учитывающих $Q_\alpha$, приводит к проявлению оболочечных эффектов в $P_\mathrm{LRA}$. Обнаружено также значительное влияние неопределенностей экспериментальных данных на результаты аппроксимации. Все рассмотренные методы предсказывают увеличение $P_\mathrm{LRA}$ до значений, близких к $1\%$, для нейтронодефицитных тяжелых и сверхтяжелых ядер, что подчеркивает важность учета возможности испускания длиннопробежных альфа-частиц при изучении распадов таких ядер.
- I. Halpern, Ann. Rev. Nucl. Sci. 21, 245 (1971).
- V.A. Rubchenya and S.G. Yavshits, Z. Phys. A 329, 217
(1988). - J. Khuyagbaatar, Phys. Rev. C 110, 014311 (2024).
- A.V. Andreev et al., Eur. Phys. J. A 30, 579 (2006).
- O. Serot and C. Wagemans, Nucl. Phys. A 641, 34 (1998).
- S. Vermote et al., Nucl. Phys. A 806, 1 (2008).
- S. Vermote et al., Nucl. Phys. A 837, 176 (2010).
Speaker: Nikita Moiseev (National Research Tomsk Polytechnic University, Joint Institute for Nuclear Research) -
353
Collective spectra yrast and first non-yrast alternating-parity bands of even-even nuclei
A model of axial quadrupole-octupole vibrations with effective triaxiality in the rotation motion is applied to yrast and first non-yrast alternating-parity bands in rare-earth and actinide nuclei in the present work. In the energy spectrum with alternating-parity bands the parity shift is determined by the simultaneous contribution of the triaxial $K$-mixing effect and the angular quadrupole-octupole vibration
modes. In solution the Schr\"{o}dinger equation in polar coordinates involving the radial variable of the effective quadrupole-octupole deformation and angular variable of the relative contributions quadrupole and octupole deformation. The Davidson potential is used to solve the radial part of the vibration-rotational Schr\"{o}dinger equation in polar coordinates. The angular variable was taken as a constant in the moment-of-inertia components of the triaxial quadrupole-octupole shape. The dependence of the contributions of the quadrupole and octupole modes on the contribution of the parameter $\varepsilon_{0}$ is determined. Depending on the values of this parameter, the energy levels change from rotational to vibrational-rotational. An overall good description was obtained for the energy levels and $\Delta I$=1 staggering patterns in the nuclei $^{154}$Sm, $^{162}$Er, $^{228,230,232}$Th, $^{236,238}$U and $^{240}$Pu. The values of the quadrupole and octupole asymmetry (triaxiality) parameters in these calculations went beyond the traditional values in the case of purely quadrupole and octupole deformations: $\gamma_{\rm eff}$ ($0\leq\gamma_{\rm eff}\leq\frac{\pi}{6}$) and $\eta_{\rm eff}$ ($0\leq\eta_{\rm eff}\leq\frac{\pi}{2}$). It turned out that these deviations are a feature of the case of simultaneous consideration of quadrupole and octupole deformed even-even nuclei with effective triaxiality. The importance of taking into account the collective quadrupole-octupole modes is shown.Speaker: Dr Makhmudjon Nadirbekov (Institute of Nuclear Physics of Uzbekistan Academy of Sciences) -
354
Барьеры деления в четных изотопах сверхтяжелых ядер
В работе проведены расчеты потенциальных энергий и моделирование возможных порогов деления четных изотопов Fl и 120 элементов в зависимости от числа нейтронов. Проанализировано влияние спин-орбитального взаимодействия на положение барьеров деления. Получены микроскопические плотности ядерных уровней в основном состоянии и седловой точке.
Fission Barriers in Even Isotopes of Superheavy Nuclei
The work presents calculations of potential energies and simulations of possible fission thresholds for even isotopes of element Fl and element 120 as a function of neutron number. The influence of spin-orbit interaction on the position of fission barriers is analyzed. Microscopic nuclear level densities are obtained both in the ground state and at the saddle point.
Speaker: Анна Безбах (ОИЯИ) -
355
Экспериментальные исследования изомерии и структуры неч. неч. ядер гольмия и европия в переходной области деформаций (N=89-93) в рамках электро-ядерного подхода «энергия – трансмутация»
В докладе изложены результаты программы электроядерных исследований на экспериментальных комплексах ЛЯП ОИЯИ и ЛФВЭ ОИЯИ, созданных на базе ускорителей. Измерения проводились в «on-line» и «off-line» режимах / 1,2 /.
Целью экспериментов является исследованиe методами ядерной спектроскопии структуры ядер ( изомерия, схемы распада ) и каналов радиоактивного распада облученных нуклидов ( а также изучение механизмов влияния электромагнитного излучения, лазерного излучений на вероятность радиоактивного распада ядер).
Описана методика экспериментов как на комплексе ЯСНАПП, так и при облучении на прямых пучках ускорителей ОИЯИ, как при использовании урановой сборки «Квинта» /1, 2/ так и результаты полученные на многодетекторном спектрометре ФАЗА .
В докладе анализируется структура девяти минутных и секундных изомеров открытых в ходе исследований в ядрах гольмия.
Рассматриваются протекающие реакции, а также исследуется структура образующихся /4,5/ исследуемых ядер. Особое внимание уделено реакциям мульти-фрагментации, идущим при больших (более 1 Гэв ) энергиях.
В докладе предлагается постановка экспериментов для проведения дальнейших исследований.Литература
1 S.I. Tyutyunnikov, V.I. Stegailov et al. «Nucleus-2023». Sarov. 2023. P.17-18.
2 S.I. Tyutyunnikov, V.I. Stegailov et al.«Nucleus-2020». St-Petersburg. 2020. P.117-118.
3 S.P. Avdeyev, W. Karcz, V.I. Stegailov et al.Bull. Russ. Acad. Sci. Phys,2020, 84,979–980.
4 S. Kilim, S.I. Tyutyunnikov, V.I. Stegailov et al. NUKLEONIKA 2018;63(1):17-22.
5 S. Kilim, S.I. Tyutyunnikov, V.I. Stegailov et al. XXIII Baldin Sem., Dubna, 2016, P. 80-81.Speaker: Владимир Стегайлов (ОИЯИ)
-
350
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Сергей Авдеев (ОИЯИ)-
356
Фотоядерные реакции на стабильных изотопах эрбия, диспрозия, палладия и молибдена
Экспериментальное исследование фотоядерных реакций на средних и тяжелых ядрах позволяет изучать особенности возбуждения и распада гигантского дипольного резонанса (ГДР). Для исследования были выбраны четные по протонам химические элементы: эрбий (Z=68), диспрозий (Z=66), палладий (Z=46), молибден (Z=42). Они имеют довольно много стабильных изотопов, что позволяет проследить изменение сечений фотонуклонных реакций в зависимости от массового числа. Получение выходов и сечений фотоядерных реакции на средних и тяжелых ядрах также имеет важное значение для задач наработки медицинских изотопов, ядерной астрофизики, создания источников нейтронов и т.д. Изотопы $^{166}$Ho, $^{161}$Tb, $^{105}$Rh, $^{99}$Mo ($^{99m}$Tc) считаются перспективными для диагностики и лечения различных заболеваний, поэтому в настоящее время рассматривается возможность наработки данных нуклидов на ускорителях электронов фотоядерным методом. Для такого способа получения радиоизотопов необходимо знать выходы реакций, приводящих к образованию не только целевого, но и побочных изотопов. В области астрофизики интерес представляют изотопы $^{164}$Er, $^{162}$Er, $^{158}$Dy, $^{156}$Dy, $^{102}$Pd, $^{94}$Mo, $^{92}$Mo. Они относятся к группе обойденных ядер, содержание которых во Вселенной нельзя описать процессами медленного и быстрого захвата нейтронов. Одним из вариантов образования таких изотопов являются фотоядерные реакции. Однако для оценки скоростей образования и распада обойденных ядер необходимо с высокой точностью знать сечения фотонуклонных реакций на этих изотопах.
В настоящей работе для экспериментального исследования фотопротонных и фотонейтронных реакций использовалась гамма-активационная методика [1]. Мишени естественного изотопного состава из эрбия, диспрозия, палладия и молибдена облучались пучком тормозных $\gamma$-квантов от импульсного разрезного микротрона НИИЯФ МГУ с энергией электронов 55 МэВ [2]. Спектры наведенной активности были измерены на детекторе из сверхчистого германия Canberra GC3019. Идентификация изотопов, образовавшихся в результате фотоядерных реакций, проводилась с помощью анализа энергий $\gamma$-квантов и периодов полураспада изотопов, полученных в результате аппроксимации зависимости интенсивности фотопиков от времени. Экспериментальные выходы реакций рассчитывались по площадям фотопиков в спектрах остаточной активности с учетом мертвого времени детектора, дрейфа интенсивности пучка $\gamma$-квантов во время измерения и различных каналов образования конечного изотопа. Экспериментальные выходы сравнивались с данными, полученными на основе комбинированной модели фотонуклонных реакций (КМФР) [3,4] и по программе TALYS [5]. Результаты сравнения указывают на необходимость учета изоспинового расщепления ГДР, квадрупольного резонанса и обертона ГДР для корректного описания фотоядерных реакций на изотопах эрбия, диспрозия, палладия и молибдена.- S. Belyshev, A. Ermakov, B. Ishkhanov et al. Nucl. Inst. Meth. A, 745, 133-137 (2014).
- А.Н. Ермаков, Б.С. Ишханов, В.В. Ханкин и др. Приборы и техника эксперимента, 2, 20–37 (2018).
- Б.С. Ишханов, В.Н. Орлин. Ядерная физика, 74(1), 21-41 (2011).
- Б.С. Ишханов, В.Н. Орлин. Ядерная физика, 78(7-8), 601–617 (2015).
- A. Koning, S. Hilaire, S. Goriely. Eur. Phys. J. A, 59, 131 (2023).
Speaker: Надежда Фурсова (Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова; НИИЯФ МГУ) -
357
New data for $^{52}$Cr and $^{68}$Zn from experiments using bremsstrahlung
New cross sections of photoneutron reactions $^{52}Cr(\gamma,2n)^{50}Cr$, $^{68}Zn(\gamma,1n)^{67}Zn$ and $^{68}Zn(\gamma,2n)^{66}Zn$ not determined before experimentally were obtained at the first time using the experimental-theoretical method for evaluation of photoneutron partial reaction cross-section meeting physical criteria of reliability method [1]. This method was proposed to solve the problem of significant disagreements between the results of experiments carried out using the beams of quasimonoenergetic annihilation photons and the method for photoneutron multiplicity sorting based on measured neutron energies [2]. Partial reaction cross sections $\sigma^{eval}(\gamma,in) = F_i^{theor} \times \sigma^{exp}(\gamma, xn)$ for $^{52}$Cr and $^{68}$Zn, were evaluated using the experimental yield cross sections $\sigma^{exp}(\gamma,xn) = \sigma^{exp}(\gamma,1n) + 2\sigma^{exp}(\gamma,2n) + 3\sigma^{exp}(\gamma,3n)$ and the ratios $F_i^{theor} = \sigma^{theor}(\gamma,in)/\sigma^{theor}(\gamma,xn)$ calculated for $i = 1, 2, 3$ in Combined photonuclear reaction model (CPNRM) [3]. The published cross sections $\sigma(\gamma,sn) = \sigma(\gamma,1n) + \sigma(\gamma,2n)$ and $\sigma(\gamma,1n)$ for $^{52}$Cr [4] and $\sigma(\gamma,xn)$ for $^{68}$Zn [5] obtained on the beams of bremsstrahlung were used.
It was found that cross sections of reactions $^{52}Cr(\gamma,1n)^{51}Cr$ and ${68}Zn(\gamma,1n)^{67}Zn$ obtained before using the method of introducing statistical theory corrections to the yield cross-section $\sigma^{exp}(\gamma,xn)$ are significantly underestimated, but those of reactions $^{52}Cr(\gamma,2n)^{50}Cr$ and $^{68}Zn(\gamma,2n)^{66}Zn$ overestimated in comparison with evaluated ones and therefore both do not meet physical criteria [6]. The reason is that at photon energies where reactions $(\gamma,1n)$ and $(\gamma,2n)$ compete with each other, the statistical evaporation model became less accurate because processes of the pre-equilibrium decay of a composite system become more important. The CPNRM [3] used in the evaluation method [1] is free from those shortcomings.
New data for cross sections of reactions $^{52}Cr(\gamma,1n)^{51}Cr$, $^{52}Cr(\gamma,2n)^{50}Cr$, $^{68}Zn(\gamma,1n)^{67}Zn$ and $^{68}Zn(\gamma,2n)^{66}Zn$ [6,7] were evaluated in accordance with reliability criteria [1].- V.V. Varlamov et al., Bull. Rus. Acad. Sci. 74, 883 (2010).
- V.V. Varlamov et al., Atom. Data and Nucl. Data Tables, 161, 101697 (2025).
- B.S. Ishkhanov et al., Phys. Atom. Nucl. 74, 19 (2011).
- B.I. Goryachev, et al., Bull. Rus. Acad. Sci. Phys. 33, 1588 (1969).
- B.S. Ishkhanov et al., Sov. J. Nucl. Phys. 20, 233 (1975)
- V.V. Varlamov et al., Phys. Atom. Nucl. 87, 669 (2024).
- V.V. Varlamov et al., Phys. Atom. Nucl. 88 (2025), in print.
Speaker: Aleksandr Davydov (Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University) -
358
Экспериментальные исследования фотоделения $^{238}U$ и $^{232}Th$ на тормозных и квазимонохроматических пучках гамма-квантов.
Ядерные данные о взаимодействии гамма-квантов с тяжелыми ядрами необходимы для решения большого числа прикладных и фундаментальных задач. Сечения фотонейтронных реакций и реакции фотоделения используются при разработке нейтронных источников для подкритичных систем, а также для разработки систем транмутации ядерных отходов, создания пучков радиоактивных ядер, получения экзотических ядер (высокоспиновых изомеров, сильнонейтроноизбыточных ядер, сильнодеформированных ядер). Эти данные используются при расчетах распространенности нейтроноизбыточных ядер, образующихся в результате взрыва сверхновых. Новые ядерные данные необходимы также для изучения структуры атомных ядер и проверки предположений о барьере деления.
Представлены результаты экспериментальных исследований фотоделения $^{238}U$ и $^{232}Th$ на тормозном пучке гамма-квантов, выполненные на разрезном микротроне РМ55 НИИЯФ МГУ, а также результаты сравнения с более ранними работами, в том числе на квазимонохроматических пучках гамма-квантов. Представлены возможные эксперименты по исследованию фотоделения на строящемся источнике комптоновского излучения национального центра физики и математики в г. Саров [1]. Помимо исследования зарядовых, массовых и угловых характеристик продуктов фотоделения, спектральные характеристики пучка гамма-квантов ИКИ НЦФМ позволяют исследовать отдельные резонансы во втором и третьем минимумах барьера деления.Выполнение настоящей работы было поддержано в рамках проекта Национального центра физики и математики (НЦФМ) № 6 «Ядерная и радиационная физика», направление 6.5.1.
[1] Л.В. Григоренко и др. // Физмат. Т.1, №3-4. С.123–254 (2024)
Speaker: Александр Кузнецов (Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, МГУ, Москва, Россия; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия) -
359
Isospin splitting of giant dipole resonance in medium and heavy nuclei
In this study experiments were performed at bremsstrahlung end-point energies of 10-23 MeV with the beam from the MT-25 microtron using of the γ-activation technique. The electron energies were in range of 10-23 MeV with an energy step of 1 MeV. To produce gamma radiation, a radiator target made of tungsten, which is a common convertor material, was used. To remove the remaining electrons from the bremsstrahlung beam, a 30 mm thick aluminum absorber was placed behind the tungsten converter. The induced activity in the irradiated targets from natural mixture of Se [1], Mo [2] and Pt were measured using a high purity germanium γ-detector, the experimental yields of the reactions were normalized to the yield of reactions 82Se(γ,n)81(m+g)Se, 100Mo(γ,n)99Mo and 198Pt(γ,n)197(m+g)Pt, respectively. The experimental values of relative yields were compared with theoretical results obtained on the basis of TALYS with the standard parameters [3] and the combined model of photonucleon reactions [4].
In the case of relative yields for photoproton reactions on the heavy isotopes, the theoretical values calculated using the CMPR are much larger than the TALYS results. The experimentally obtained results lie closer to the theoretical curve according to the CMPR code. Including isospin splitting in the CMPR allows to describe experimental data on reactions with proton escape in the energy range from 10 to 23 MeV.Speaker: Fazilat Rasulova (FLNR JINR, INP AS RUz) -
360
Исследование фотоядерных реакций с вылетом протонов на мишенях естественного осмия при граничной энергии тормозного излучения 23 и 55 МэВ
Медицинские изотопы рения (186Re, 188Re, 189Re) - перспективные радионуклиды для использования в сравнительно новом методе ядерной медицине «тераностике». В настоящее время 186Re получают в реакции 185Re(n, γ)186Re из мишеней, обогащенных 185Re, однако при использовании такого подхода, сложно добиться высокой радионуклидной чистоты этого изотопа. Основным способом получения 188Re является радионуклидный генератор 188W→188Re. Поскольку природный вольфрам состоит из четырех изотопов,для получения родительского радиоизотопа 188W вольфрамовые мишени, обогащенные по 186W, используются в реакциях двойного захвата нейтронов [186W(n, γ)187W(n, γ)188W] с последующим термохроматографическим выделением 188Re. В связи со сложностью и дороговизной получения 186Re и 188Re реакторным методом существует актуальная задача в поиске альтернативных способов получения этих перспективных медицинских радиоизотопов.
В работе исследовано возбуждение радиоактивных ядер изотопов рения в фотоядерных реакциях с вылетом протонов на мишенях естественного осмия при граничной энергии тормозного излучения 23 и 55 МэВ. В гамма-спектрах надежно идентифицированы гамма-переходы, сопутствующие распаду 186Re, 188Re и 189Re и получены средневзвешенные по потоку тормозного излучения сечения реакций. Для тормозного излучения с граничной энергией 23 МэВ они оказались равными: σср(186Re) = 2.4±0.8 мкбн, σср(188Re) = 0.4±0.2 мкбн и σср(189Re) = 1.8±0.6 мкбн. Для тормозного излучения с граничной энергией 55 МэВ они оказались равными: σср(186Re) =0.082±0.008, σср(188Re) = 0.24±0.02 и σср(189Re) = 0.88±0.09. Полученные результаты обсуждаются. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 24-25-00249).Speaker: Марина Желтоножская (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) -
361
Single ionization of helium atom by 75 keV protons
The report is devoted to unique recent experiments on measuring the fully differential cross section of the reaction p+He -> p+e+He+ at a proton energy of 75 keV and low energy transfer to the atom. The presented theoretical and numerical calculations show the important role of the pickup mechanism
Speaker: Yuri Popov (Lomonosov Moscow State University)
-
356
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics 2053 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
2053
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Нелли Ефимовна Пухаева (Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия; Северо-Осетинский государственный университет, Владикавказ, Россия)-
362
Влияние облучения альфа-частицами на характеристики SiC- и Si-детекторов
Представлены результаты исследования полупроводниковых детекторов из карбида кремния (SiC-ППД) [1, 2, 3] и кремния (Si-ППД). Облучение проводилось с помощью образцового спектрометрического α-источника 226-Ra с энергиями E = 4,8 ÷ 7,7 МэВ. Толщина чувствительного слоя n-типа SiC-детекторов составляла 25, 50 мкм, диаметр рабочей области — 3,0 мм. Исходное энергетическое разрешение детекторов составляло <25 кэВ. Si-детекторы изготовлены по планарной технологии на кремнии n-типа, рабочая площадь 7 мм. кв., чувствительная толщина 300 мкм.
Радиационная стойкость SiC- и Si-детекторов исследовалась до и после облучения альфа-частицами с интегральными потоками до ~ 2×10^11 α/см^2.
Показано, что после облучения α-частицами наблюдалась деградация: пики от α-частиц сместились в сторону меньших каналов и стали шире. Установлено, что с увеличением дозы облучения энергетическое разрешение ухудшается более чем на порядок для SiС-ППД 50 мкм, в 4 раза для SiС 25 мкм и более, чем в 2 раза для Si-ППД. При этом эффективность сбора заряда η (CCE) снизилась со 100% до 80% (рабочее напряжение 300 В) для SiC-ППД 50 мкм, со 100% до 90% (рабочее напряжение 200 В) для SiС-ППД 25 мкм и со 100% до 95% (рабочее напряжение 100 В) для Si-ППД при максимальной дозе облучения.- Yu.B. Gurov et al. // Instrum. Exp. Tech. 2015. V. 1. P. 22.
- S.A. Evseev et al. // Physics of Atomic Nuclei. 2023. V. 86, No. 5, pp. 841–844.
- Yu.B. Gurov et al. // Instrum. Exp. Tech. 2024, V. 67, No. 6, pp. 1095–1101.
Speaker: Сергей Евсеев (ОИЯИ) -
363
ALICE Fast Interaction Trigger Detector Control System for the LHC RUN3
The new hybrid Fast Interaction Trigger (FIT) system of the forward detectors has become an essential part of the ALICE experiment since the start of Run 3 in 2022. FIT comprises three subsystems – FT0, FV0 and FDD using Cherenkov radiation and scintillations for charged particle detection. FIT determines the event plane and centrality and provides high-precision collision time for particle identification with the time-of-flight detector. Thanks to the advanced front-end electronics, FIT serves as the primary ALICE trigger. It generates vertex and centrality triggers at the shortest latency (LM0), allows the estimation of luminosity and beam-induced background in various collision systems.
Despite differences in particle detection technologies, all FIT sensors use similar hardware. This homology allowed us to develop a unified Detector Control System (DCS) design for all three subsystems. The DCS is the primary tool for control, monitoring and hardware safety assurance. It allows detectors to be configured and calibrated automatically by connecting with signals from available ALICE subsystems. In the case of FIT, DCS also delivers luminosity and background estimation for experiment coordination.
This talk is devoted to the design and implementation of FIT DCS, which is one of the crucial elements contributing to the smooth operation and good performance of ALICE over the first three years of Run 3.Speaker: Mikhail Sukhanov (Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Science, Affiliated with an international laboratory covered by a cooperation agreement with CERN) -
364
Малошумящий детектор минимально ионизирующего излучения на основе МКП.
Для выявления центральных столкновений и точки ион-ионных столкновений в каждом событии в экспериментах на коллайдере NICA ранее было предложено использовать быстрый детектор столкновения пучков (BBC монитор [1]) на микроканальных пластинах (МКП), Последние характеризуются собственным высоким коэффициентом усиления (~106), сигналом малой длительности (~2нс). При этом эффективность регистрации минимально ионизирующих частиц детекторами на МКП составляет ~80 % [2], что связано с широким диапазоном спектра импульсов на выходе МКП, где в мягкой области содержатся шумовые импульсы самого детектора.
В настоящей работе для повышения эффективности регистрации минимально ионизирующих частиц и для улучшением соотношения сигнал-фон предложено и создано устройство, состоящее из двух шевронных сборок МКП и схемы совпадений. Использование наносекундой схемы совпадений позволяет повысить эффективность регистрации минимально ионизирующих частиц и одновременно уменьшить на несколько порядков фон устройства.
Тестирование устройства на основе шевронных сборок МКП для высокоэффективной регистрации минимально ионизирующих частиц проведено с использованием космических лучей. Получена эффективность 95±4%. Ранее в [3] показана возможность создания с использованием быстрых компараторов преобразователя время-код (ВЦП) на основе матрицы FPGA (Field-programmable gate array). Это позволит использовать предложенный в [1] BBC монитор в экспериментах на коллайдере NICA для пособытийного определения в on-line режиме как времени и центральности, так и координаты точки столкновения ионов.
Работа выполнена при поддержке СПбГУ, шифр проекта 103821868
1. Baldin, A. A et al. Fast beam–beam collisions monitor for experiments at NICA. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Vol. 958, 162154, 04.2020.
2. F.F.Valiev et al. Microchannel plates as a detector for 800 MeV/c charged pions and
protons. // JINR Rapid Communications. 1991. No 4/50/-91. p.27-36.
3. Валиев, Ф. Ф и др. Hardware Implementation and Testing of 4-Channel Fast Electronics for an MCP Detector // Bulletin of the Russian Academy of Sciences:Physics. 88, 8, p. 1319-1326 8 p.Speaker: Никодим Макаров (Санкт-Петербургский государственный университет) -
365
Reconstruction of spatial resolution of multilayer position-sensitive detectors
Mathematical methods for reconstructing the spatial resolution of multilayer position-sensitive detectors designed to register fast charged particles are considered. It is assumed that reference detectors with known resolution are not available. Therefore, it is necessary to obtain measurement errors from measurements with unknown errors.
Typically, the assumption of equal resolutions is used, as in Refs. [1,2] and many others. This approach greatly simplifies the calculation, but prevents a more detailed study of the detectors.
A more sophisticated approach is proposed in Ref. [3]. It allows one to find layer resolutions individually, even if they are different, but does not work for detectors with less than five detecting layers. However, there are many experiments, including one planned at PNPI [4], with detectors consisting of fewer layers.
A more general approach presented in this report uses track fitting with arbitrary weights of hits and uses not only variances of residuals but also covariances of residuals. Although no solution has been found to obtain individual resolutions of four fixed layers, many useful values can be obtained. The exact average resolution of four layers (that is the square root of the average of four variances of layer resolutions) can be obtained for four-layer detectors with symmetric gaps between layers. The exact average resolutions of two outer and two internal layers can also be obtained in this case. If the detector is not symmetric, one can find approximate averages described above. If the resolutions of outer layers are close to each other, one can also obtain the approximate individual resolutions of two internal layers with very good precision.
Moreover, if the layers can be rearranged or moved, individual resolutions of all detecting layers of four-layer and three-layer detectors can be obtained.
The recently proposed geometric mean method, see Ref. [5] and some other publications, does not provide any additional information.
References
- G. Charpak et al., Nucl. Instr. Meth. 167 (1979) 455.
- F. Piuz et al., Nucl. Instr. Meth. 196 (1982) 451.
- R. Fruhwirth, Nucl. Instr. Meth. A243 (1986) 173.
- A.A. Vorbyev, Phys. Part. Nucl. Lett., 16 (2019) 524.
- R.K. Carnegie et al., Nucl. Instr. and Meth. A 538 (2005) 372.
Speaker: Igor Smirnov (Petersburg Nuclear Physics Institute, NRCKI) -
366
Model Natural Helium Alternative Fast Neutron Detector Using PHITS Monte Carlo Simulations
This paper presents a Monte Carlo simulation study aimed at designing a Alternative fast neutron detector based on Helium-4 gas as the detection material. This research focuses on changing the optimal design parameters for a Helium-4 detector when irradiated by a Californium (Cf-252) neutron source. A Monte Carlo simulation model was developed using the Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS) to track neutron interactions with Helium-4 gas within various detector configurations. Specifically, variations in the length, radius, and pressure of the Helium-4 gas inside the detector were implemented to evaluate their impact on detection efficiency.
Speaker: Van Hai Cao (JINR) -
367
К вопросу о краевых эффектах в кремниевых поверхностно-барьерных детекторах ядерного излучения
Краевой ток утечки для кремниевых поверхностно-барьерных детекторов (ПБД) [1, 2], практически на порядок превышает все остальные компоненты обратного тока [3]. Очевидно, что это связано с высокой напряженностью электрического поля на краю металлического электрода, однако приемлемая физическая модель явления пока не предложена.
Для понимания механизма краевого эффекта были изучены детекторы с ПБ структурой и имплантированным выпрямляющим контактом.
При изготовлении образцов была обеспечена фиксированная геометрия выхода на поверхность кремния области пространственного заряда (ОПЗ). Для ПБ структуры это достигалось напылением выпрямляющего контакта на всю поверхность кремниевой пластины или раскалыванием такой пластины на две части. Для другого типа структур подобная геометрия обеспечивалась сколом одной стороны детектора.
Ход обратной вольтамперной характеристики «сколотого» образца с имплантированным переходом сохранял характерный для диодной структуры вид и после наступления режима полного обеднения, вплоть до пробоя (200 В).
Если предположить, что обусловленная выходом ОПЗ на сколотый торец структуры компонента тока пренебрежимо мала, то ток утечки должен определяться периферийной областью (со стороны скола) выпрямляющего контакта, который испытывает деградацию, по-видимому, из-за возникающих дефектов кристаллической структуры, которые образуются вдоль поверхности на некоторую глубину в момент скола.
Такие же результаты были получены и для ПБ структур: составляющая тока утечки, обусловленная торцевой поверхностью, пренебрежимо мала по сравнению с компонентой тока, связанной с краевой деградацией барьера под металлическим выпрямляющим переходом.
В ПБД с обычной геометрией (выпрямляющий контакт не доходит до края пластины, по периметру контакта имеется «голая» травленная поверхность) повышенная напряженность поля на краю будет приводить к аномальному возрастанию тока утечки, но уже с учетом деградации барьера в краевой области под металлическим выпрямляющим контактом.
ПБ структура с травленным торцом имеет более чем в 2 раза низкие обратные токи по сравнению с имплантированным контактом, однако она оказывается аномально чувствительна к влажности воздуха, что приводит к значительному увеличению тока утечки.- С.И. Лашаев, С.М. Соловьев. Авторское свидетельство № 1.136.675, приоритет от 23.09.83.
- С.И. Лашаев и др. Положительное решение по заявке № 3857078 от 29.12.1984.
- C.И. Лашаев. Кремниевые ПБД большой площади и сложной конфигурации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, 1986 г., Ленинград.
Speaker: Сергей Лашаев (Радиевый институт имени В. Г. Хлопина)
-
362
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Евгений Андронов (Санкт-Петербургский государственный университет)-
368
Performance for inclusive photon and neutral pion spectra and anisotropic flow measurements with the MPD experiment
Direct photons produced in electromagnetic processes in heavy ion collisions do not interact with other particles in the collision zone. Analysis of direct photon spectra and anisotropic flow could provide additional information on the conditions at the production time and on the development of collective flow. Spectra and flow of direct photons are quantified based on the corresponding observables for inclusive photons and neutral pions, the main source of decay photons. Moreover, results for neutral pions may help to constrain properties of hot and dense nuclear matter thanks to robust particle identification and wide coverage in transverse momentum.
We present the performance for inclusive photon and neutral pion spectra and anisotropic flow measurements with the MPD experiment. The study was done using simulations of detector response to particles produced by the UrQMD event generator with realistic algorithms of event reconstruction and analysis. Different methods for photon and neutral pion reconstruction are considered to estimate possible systematic biases.Speaker: Oleg Golosov (NRC "Kurchatov Instittute"; NRNU MEPhI) -
369
Feasibility study of the anisotropic flow measurements with fixed-target mode of the MPD experiment at NICA
One of the primary objectives of beam energy scan programs involving relativistic heavy-ion collisions at energies of √sNN=2-5 GeV is to investigate the high-density equation of state (EoS) and explore potential phase transitions in dense baryonic matter. This talk will be dedicated to a performance study of differential anisotropic flow measurements for identified charged hadrons at T=2.5A GeV (√sNN=2.87 GeV). The analysis employs a realistic data simulation and reconstruction approach for the MPD experiment at NICA, operating in fixed-target mode (MPD-FXT).
Speaker: Petr Parfenov (JINR) -
370
Performance of the MPD detector at NICA in the fixed-target configuration
Multi-Purpose Detector (MPD) at NICA collider is designed to study heavy-ion collisions in the energy range 4-11 GeV. Physics program of the MPD can be extended to lower energies 2.4-3.5 GeV by detecting collisions of one of the NICA beams with a fixed target installed in the beam pipe. The fixed target configuration also provides high event rate even at low beam intensities, which may be a significant benefit in the initial period of collider operation. In this presentation, we review performance of the MPD detector in the fixed-target configuration, discuss detector acceptance and trigger system efficiency. We also propose different methods for the measurement of event centrality.
Speaker: Viktor Riabov (NRC KI - PNPI) -
371
Сравнительный анализ подходов к идентификации частиц в эксперименте MPD
Идентификация частиц, рождающихся в столкновениях ионов в коллайдере NICA, является одной из базовых функций Многоцелевого детектора (MPD) (1). Основными средствами идентификации в MPD являются времяпролетная система (TOF) и время-проекционная камера (TPC). В докладе приводится сравнительный анализ различных алгоритмов идентификации частиц данными детекторными системами.
Сравнение методов идентификации показало, что при определенных условиях применение статистического Байесовского подхода (2) позволяет добиться минимального загрязнения спектров идентифицируемых частиц неверно определенными частицами при достаточно высокой эффективности идентификации.- MPD collaboration, Eur. Phys. J. A 58, 140 (2022). https://doi.org/10.1140/epja/s10050-022-00750-6.
- The ALICE Collaboration., J. Adam, D. Adamová et al., Eur. Phys. J. Plus 131, 168 (2016). https://doi.org/10.1140/epjp/i2016-16168-5 .
Speaker: Вадим Бабкин (Объединенный институт ядерных исследований) -
372
Modeling multiplicity distributions in relativistic heavy-ion collisions at NICA energies
This work presents a comprehensive analysis of charged-particle multiplicity distributions in relativistic heavy-ion collisions, focusing on systems and energies relevant to the first stages of NICA collider experimental program (Bi+Bi, Xe+Xe, and Xe+W). Utilizing three theoretical frameworks—the Glauber two-component model [1], the Color Glass Condensate (CGC) [2], and the EKRT saturation model [3]—we investigate the dependence of multiplicity density on collision centrality, energy, and geometry.
The Glauber model Monte Carlo (GMC) approach [4] provides geometric parameters such as the number of participants (Npart) and binary collisions (Ncoll) for centrality classification. Input parameters, including nuclear density profiles and inelastic nucleon-nucleon cross-sections, are calibrated using RHIC and LHC data. Centrality-dependent tables for Npart and Ncoll are generated for Bi+Bi, Xe+Xe and Xe+W systems, enabling comparisons with experimental data. Results highlight a consistent rise in multiplicity by participant pair with Npart for two-component Glauber and CGC models, while the EKRT model predicts a suppression due to gluon saturation effects [1,4].
Notably, none of the models reproduce the "upstick" effect observed in LHC Xe+Xe data [5], underscoring the need for future NICA-MPD measurements. These findings emphasize the role of initial-state geometry and energy dependence in constraining QCD matter properties at extreme baryon densities.
The authors acknowledge Saint-Petersburg State University for a research project 103821868References:
[1] S. Basu et al., J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 48, 025103 (2021).
[2] D. Kharzeev, E. Levin, Phys. Lett. B 523, 79 (2001).
[3] K. J. Eskola, K. Kajantie, P. V. Ruuskanen, K. Tuominen, Nucl. Phys. B 570, 379 (2000).
[4] M. L. Miller et al., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 57, 205 (2007).
[5] S. Acharya, et al. (ALICE Collaboration), Phys. Lett. B 845, 138110 (2023)Speaker: Loic Katarebe (Saint Petersburg State University) -
373
ACTS-based track reconstruction for the forward detector in the MPD experiment at NICA
The main goals of the Multi-Purpose Detector (MPD) at Nuclotron-based Ion Collider Facility (NICA, Dubna, Russia) are the investigation of the phase diagram of QCD matter at high baryon densities and search for transition of nuclear matter into a deconfined state of quarks and gluons, known as the Quark-Gluon Plasma (QGP). The MPD will be constructed in two stages, with the first stage including the time projection chamber (TPC), the time-of-flight (TOF) detector, the electromagnetic calorimeter (ECAL) covering the pseudorapidity range $|\eta|<1.2$, and supplemented with fast beam-beam counters and zero degree calorimeters at forward rapidities. At the second stage of the experiment the inner tracking system and the forward tracking detector are foreseen to be installed.
The installation of the forward tracking detector in MPD would extend kinematic range to higher rapidities, which is critical for the studies of various observables that can be used to probe the properties of the produced matter: the rapidity dependence of meson and baryon yields, the anisotropic flow and global polarization a forward rapidities and others.
The proposed forward tracker setup consists of five tracking stations on each side from the interaction point, covering pseudorapidity range $1.5 < |\eta| < 2.1$. The tracker will be installed in the existing solenoidal magnetic field with $B_z = 0.5$ T, imposing a challenge for the track reconstruction, since the momentum resolution is driven by the radial distance available for the track curvature measurements that is strongly reduced at high pseudorapidities.
The performance of the forward detector concept has been studied using the tracking algorithms based on the ACTS package. It provides a set of experiment-independent tools and algorithms, including the Kalman filter for track parameter fitting, seeding tools and combinatorial Kalman filter for track finding, as well as vertex reconstruction algorithms.
The momentum resolution for pions and protons reconstructed only using information from the forward tracker ranges from 3% to 10% depending on transverse momentum and pseudorapidity and found to be in agreement with analytical calculations.
Track finding efficiency in high-multiplicity environment foreseen in heavy ion collisions was tested using Au-Au events at $\sqrt{s_{\rm NN}} = 11$ GeV from the UrQMD event generator injected into the forward tracker model integrated into the standard MPD reconstruction framework, MpdRoot. Efficiency of the ACTS-based track reconstruction reaches 90-95% for both pions and protons at transverse momenta $p_{\rm T} > 0.3$ GeV/$c$.
In this report, we will discuss the expected performance of the forward tracker in more detail. In addition, the possibilities for improvements, including utilization of the TPC information, will be discussed.
Speaker: Nazar Burmasov (PNPI, JINR, MEPhI)
-
368
-
16:10
кофе-брейк
-
1. Experimental and theoretical studies of nuclei 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Владимир Руднев (Санкт-Петербургский государственный университет)-
374
Study of the relationship between potential energy levels and shape changes of uranium and thorium nuclei in the CNS method with their fission energy and neutron flux
The connection between the worlds of theoretical and experimental nuclear physics gives us a more complete and realistic perspective, and in fact, the two complement and cover each other, which is why, over time, nuclear models have been completed, from the liquid drop to the shell and rotational model [1,2]. The Nielsen-Strotinsky model, on which the CNS code is based, is a micro-macroscopic method that adds shell effects and Strotinsky corrections to macroscopic calculations, and therefore can predict the behavior of nuclei well [3,4]. The Monte Carlo method, on which the MCNPX code is based, is also a statistical method that
performs laboratory and experimental nuclear calculations with very good accuracy [5]. For example, calculating the energy released from fission and calculating the flux and dose of neutrons and gamma rays emitted from the nucleus can be done with good accuracy with this code [6]. In this study, in the theoretical section, we used the CNS model and calculated the energy parameters and axial dipole deformation with increasing spin for uranium and thorium isotopes [7]. Then, in order to investigate its practical effects, we equated this spin increase in the rotational model with nuclear fission and the amount of energy released due to fission, as well as the neutron flux after fission in the MCNP code (which is also determined in the CNS code based on the passage of fission barriers). At energies close to the ground state spins and higher spins, as well as energies close to the fission barrier spins, i.e. the spin range 12$^+$ to 18$^+$ and from this range to higher spins in the CNS code, the energy deposited in cells containing different isotopes in the MCNPX code increased. Then, the results of the MCNPX code were compared with the CNS code and it was found that the two methods are in very good agreement.References
1. S. R. Stroberg et al., Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 69-307-362 (2019).
2. F. Q. Chen et al., Physics Letters B 785-211-216(2018).
3. T. Bengtsson et al, Nucl. Phys. A 436-14 (1985).
4. B.G. Carlsson et al., Phys. Rev. C 74 011302 (2006).
5. Özdoğan, H et al., Polymers, 16(13), p.1778 (2024).
6. H. Zanganeh, & M.N. Nasrabadi, Radiation Physics and Chemistry 229, p.112495 (2025).
7. H. Zanganeh et al. Nucl. Phys. A 997-121716 (2020).Speaker: Mehdi Nasri Nasrabadi (Faculty of Physics, University of Isfahan, 81746-73441, Isfahan, Iran; Joint Institute for Nuclear Research, Dubna 141980, Russia) -
375
Breakup dynamics of a neutron-halo projectile on heavy target at deep sub-barrier energies
By studying the total fusion and breakup cross-sections in the interaction of the neutron-halo $^{11}$Be projectile on the lead target $^{208}$Pb, it is shown that, even for the neutronhalo projectile, the breakup channel remains the most dominant reaction channel at sub-barrier energies, following a characteristic behavior that was also previously verified for the case of the proton-halo projectile $^8$B. This feature is found to emanate from the enhancement of the breakup cross-section, due to the continuum-continuum couplings coming exclusively from its Coulomb component. We further speculate that the enhancement of the Coulomb breakup cross-section at sub-barrier incident energies by the continuum-continuum couplings could be associated with the projectile breaking up on the outgoing trajectory, provided these couplings can be proven to delay the breakup process.
Speaker: Tapuwa SitholeI (University of South Africa (UNISA)) -
376
Estimates of the structure of yrast band states via the phenomenology of Harris and IBM
$\ \ \ \ \ $Representing the energies of collective states in terms of effective moments of inertia has the advantage of revealing subtle energy changes in the bands as the spin increases. This is convenient not only for the crossing of bands analysis, manifested through backbending, but in almost all cases. If the crossing of bands in the IBM approximation is described only through the expansion of the latter, by introducing high-spin bosons [1], then the parabolic increase in the moment of inertia with an increase in the rotation frequency or spin of the collective state is also reproduced in the traditional IBM phenomenology. IBM has a group-theoretical justification. The most important basis for which is the assumption of the closedness of the algebra of phonon operators and their commutators. When mapping these operators onto ideal bosons while maintaining the closedness condition of already boson operators, a condition arises for the finiteness of the maximum number of quadrupole bosons $\Omega$ and the presence of roots, which are conveniently represented through $s$-bosons. In the IBM, called IBM phenomenology, the model parameters are selected based only on the best agreement between the calculated and experimental data. The IBM phenomenology, but not in the case of the $SU$(3) limit, reproduces the fact that even in nuclei with rigid deformation the energies of states grow more slowly than the dependence $I(I+1)$ gives. It is reflected in the nature of the function describing the dependence of the moment of inertia on the square of the rotation frequency (linear or parabolic [2]). Moreover, the nature of this function depends on the parameters of the IBM Hamiltonian. The parabolic case can lead to upbending. Also, upbending can be a specific manifestation of the bands crossing. Moreover, as was shown for $^{222}$Th, the bands crossing can occur without this being clearly manifested in the moments of inertia [3]. From comparing the experimental data with the moments of inertia obtained in the Harris scheme, within the framework of expanded by high-spin modes IBM, it is possible to determine from which spins the main component of the wave function ceases to be collective or defined only by $d$-bosons.
$\ \ \ \ \ $There is one more phenomenon that cannot be reproduced in the Harris model. This is some additional growth of energies of collective states. For moments of inertia, this corresponds to the cessation of growth of the moment of inertia from the rotation frequency or a strong weakening of its growth. In heavy nuclei, if this is realized, then starting from the spin $I\geq 28^+$. It would seem that this is rather strange and the exact opposite was expected due to the growing influence of high-spin modes on collective states with increasing spin. It turned out that this effect is associated with the dynamics of collective states and manifests itself depending on the choice of the maximum number of $\Omega$ and is stronger the smaller this number. Thus, this effect, which we called downbending, is a strong criterion for determining the $\Omega$. So for $^{234}$U, where states before spin $I=30^+$ are observed the optimal one turned out to be $\Omega=22$ and for for $^{238}$U, where states before the spin $I=34^+$ are observed, $\Omega=25$ turned out to be optimal. The described method of comparing experimental energies with the indicated phenomenological approaches, on the one hand, reveals a number of effects, and on the other, is an extremely useful aid in carrying out microscopic calculations of the structure of the states of yrast bands.
1. A.D. Efimov, I.N. Izosimov, Phys. At. Nucl. 8, 333 (2023).
2. A.D. Efimov et al., JINR Preprint E4-2024-61 (JINR, Dubna, 2024).
3. A.D. Efimov, I.N. Izosimov, JINR Preprint E4-2024-27 (JINR, Dubna, 2024).
4. S. M. Harris, Phys. Rev. B 138, 509 (1965).Speaker: Alexander Efimov (Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg, Russia; Ioffe Physical-Technical Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia.) -
377
Исследование спектра возбужденных состояний 46Ti в реакции подхвата протона 45Sc(3He, d)46Ti
В работе изучается спектр возбужденных состояний ядра 46Ti, получаемых в реакции подхвата протона 45Sc(3He, d)46Ti при энергии пучка 3He 30 МэВ. Изучена возможность интерпретации гипердеформированных состояний 46Ti как кластерной системы 42Ca + 4He. Эксперимент проведён на циклотроне У-120М с использованием кремниевых телескопов. Частицы идентифицированы методом ΔE-E. Кинематика реакции рассчитана с учётом углов вылета дейтронов. Обнаружены новые возбуждённые состояния 46Ti с энергиями >10 МэВ. Теоретический анализ выполнен в рамках модели двойной ядерной системы, включая расчёт потенциальной энергии [1], массового параметра [2] и волновых функций по координате массовой асимметрии. Показано, что измеренные состояния с энергиями >10 МэВ можно интерпретировать как коллективные возбуждения кластерной системы 42Ca + 4He [3]. Результаты подтверждают важность учета кластерных степеней при анализе гипердеформированных состояний ядер.
Литература
- G.G. Adamian et al., Int. J. Mod. Phys. E 5, 191–216 (1996)
- G.G. Adamian et al., Nucl. Phys. A 584, 205-220 (1995)
- T. Isataev et al., Phys. Part. Nucl. Lett. 20, 1106-1115 (2023)
Speaker: Абдулбосит Мухаммадсолиев (ОИЯИ)
-
374
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Сергей Авдеев (ОИЯИ)-
378
Возбуждение изомерных состояний изотопов Hg и Au в фотоядерных реакциях
В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования возбуждения изомерных состояний изотопов ${}^{195,197}$Hg и ${}^{198,200}$Au, образованных в фотоядерных реакциях на природной смеси изотопов ртути под действием тормозного излучения с максимальной энергией 55 МэВ. Измерения проводились активационным методом [1] на ускорителе электронов РМ-55 НИИЯФ МГУ [2]. Изомерные отношения определялись как отношение выходов конечных продуктов в изомерном (m) и основном (g) состояниях:
$$IR = Y_m/Y_g.$$ Проведен систематический анализ зависимостей парциальных выходов от двух спиновых параметров, характеризующих динамику переноса момента в ядерных реакциях: модуля разности спинов продукта и мишени $\lvert I_p - I_t \rvert$ и квантово-механического спинового дефицита $\lvert I_p(I_p+1) - I_t(I_t+1) \rvert$ [3]. Использование параметра, учитывающего квадрат спинового момента, уменьшает разброс экспериментальных точек по сравнению с простой разностью спинов. Наблюдается четкая корреляция между парциальными выходами изомерного (m) и основного (g) состояний ($Y/Y_{tot}$) и введенным спиновым параметром, демонстрирующая подавление образования высокоспиновых состояний. Теоретические расчеты, выполненные с использованием кода TALYS [4] для ряда тяжелых мишеней, предоставили сравнительную основу для наблюдаемых закономерностей. На основе экспериментальных данных получена параболическая зависимость $lg(Y/Y_{tot}) = 1 + B\Delta I + C\Delta I^2$. Эта зависимость отражает существенный вклад спиновых эффектов в механизм образования изомерных состояний.-
S.S. Belyshev, A.N. Ermakov, B.S. Ishkhanov et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A 745, 133 (2014).
-
A.N. Ermakov, B.S. Ishkhanov, A.N. Kamanin et al., Instrum. Exp. Tech. 61, 173 (2018).
-
S.A. Karamian, Phys. At. Nucl. 76, 1437-1444 (2013).
-
A. Koning, S. Hilaire, S. Goriely, Eur. Phys. J. A 59, 131 (2023).
Speaker: Олеся Порядина (Физический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова) -
-
379
Универсальная аппроксимация сечения реакции фотоделения
При моделировании электромагнитных процессов фотоядерными реакциями ((γ, 1n), (γ, 2n)...) часто пренебрегают, поскольку фотоядерные сечения сопоставимы с электромагнитными γ-взаимодействиями только в области гигантского дипольного резонанса. Однако ядерные процессы способны поглотить γ-кванты значительно большей энергии, чем атомные электромагнитные процессы, поэтому в ряде задач моделирования учёт фотоядерных процессов имеет решающее значение. Другим существенным отличием фотоядерных реакций от атомных электромагнитных реакций является генерация проникающего нейтронного излучения. Для тяжёлых ядер становятся существенными не только фотоядерные реакции, но и реакции фотоделения (σ(γ, f )), в которых генерируются осколки деления с достаточно высокой энергией. Для средних ядер порог фотоядерных реакций увеличивается по мере снижения атомного номера. В работе проведён анализ сотен экспериментальных работ по измерению сечений реакции фотоделения для десятках изотопов от титана до тяжёлых актинидов. Разработана общая параметризация сечений фотоделения с зависимостью коэффициентов аппроксимации от атомного номера и атомного веса изотопа, которая позволяет использовать все экспериментальные данные для уточнения энергетической зависимости сечения фотоделения для конкретного изотопа.
Speaker: Алексей Грачков (ФГУП «ВНИИА») -
380
Исследование характеристик установки для изучения ядерных реакций с легкими ядрами с парным спектрометром на источниках быстрых нейтронов
Создана и исследуется установка для изучения реакций быстрых нейтронов с энергией свыше 1 МэВ с легкими ядрами $^{10}\text{B}$, $^{11}\text{B}$ и $^{9}\text{Be}$ c вылетом ядра $^{3}\text{H}$ или $^{4}\text{He}$ и электрон-позитронной пары. Установка исследуется на источниках нейтронов на базе ускорителей протонов и электронов и включает в себя позиционно-чувствительные детектор нейтронов на основе двух слоев с исследуемым ядром и пропорциональной камеры, двух позиционно-чувствительных кремниевых детекторов и двух сцинтилляционных детекторов на основе NaI.
Speaker: Сергей Караевский (ИЯИ РАН) -
381
Образование возбужденных ядер во взаимодействии быстрых нейтронов с ядром $^{10}\text{B}$ при энергии свыше 1 МэВ
Выполнено экспериментальное и расчетное исследование образования возбужденных состояний ядер $^{7}\text{Li} ^{*}$ и $^{8}\text{Be}^{*}$ во взаимодействии быстрых нейтронов с ядром $^{10}\text{B}$ при энергии свыше 1 МэВ, сопровождающихся вылетом ядер $^3\text{H}$ и $^4\text{He}$. Экспериментальные данные сравниваются с величинами ионизационных потерь ядер-спектаторов $^{3}\text{H}$ и $^{4}\text{He}$ в газовых слоях позиционно-чувствительного многопроволочного детектора с чувствительными размерами 50х50 мм$^{2}$ с двумя слоями $^{10}\text{B}$ для идентификации исследуемых реакции и увеличения эффективности.
Speaker: Станислав Поташев (ИЯИ РАН)
-
378
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics 2053 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
2053
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Нелли Ефимовна Пухаева (Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия; Северо-Осетинский государственный университет, Владикавказ, Россия)-
382
On the use of the 229mTh isomers from the alpha decay of 233U in a hydrochloric acid solution for a nuclear clock
In isomeric transition the 229mTh nuclei emit photons of 8.4 eV energy and a frequency of 2020.409 THz, which can serve as a reference frequency for the most accurate clocks. Isomeric transitions for 229mTh atoms without valence electrons (ionization degree n = 4+) occur only by photon emission, at n = 1+, 2+, 3+ transitions mainly occur through an electron bridge, in neutral 229mTh atoms, electron conversion mainly occurs. Initially, 229mTh isomers were obtained in 2% of the alpha decay of 233U nuclei. But in 2024, isomers were first obtained by resonant laser irradiation of 229Th nuclei in the ground state in crystals where the Th atoms were in the form of ions. For the 229mTh isomers obtained in this way, in [1] and in subsequent works, emission of isomeric transition photons was observed.
Laser excitation of isomers allows the development of nuclear clocks similar to atomic ones. The 229Th nuclei in the ground state are embedded in a crystal, irradiated with a laser with a tunable frequency, and the resonance frequency is found based on the maximum excitation of the isomers, which is the reference frequency for the clock (see, e.g, [2]). However, unlike short-lived excited atomic states, the 229mTh isomer lives in a crystal for more than 10 minutes, and when changing the laser frequency to search for resonance, it is necessary to wait for the decay of the previously excited 229mTh isomer or replace the target.
In view of this, it is interesting to consider the possibility of amplifying the emission of photons from a source with the 229mTh isomers and using this frequency-stable optical signal in a clock. For example, such a source could be 229mTh isomers excited by a laser in a crystal. It is also promising to try a weaker, but also much simpler source with the 229mTh isomers obtained by alpha decay of 233U in a hydrochloric acid solution, where atoms with isomeric 229mTh are in the form of 4+ ions and the only channel for the isomers decay is photons emission [3]. In this way it is possible to observe the emission of photons by 229mTh isomers, and not the luminescence of the solution under the action of radiation from other daughter products of U decay. Radiochemical separation of freshly formed Th from a solution with 100 mg of 233U gives a source emitting 229mTh photons with an intensity of ~ 1000 ph/s [3]. This intensity is sufficient for resonance amplification, see for example [4] about photon-level broadband spectroscopy with two frequency combs.- J. Tiedau et al., Phys. Rev. Lett. 132, 182501 (2024).
- G.A. Kazakov et al., New J. of Phys. 14, 083019 (2012).
- V.V. Koltsov and T.E. Kuzmina, Bull. Russ. Acad. Sciences: Phys. 87(12), 1928 (2023).
- N. Picqué and T. W. Hänsch, Proc. Nati. Acad. Sci. USA. 117(43), 26688 (2020).
Speaker: Vladimir Koltsov (Khlopin Radium Institute, Saint-Petersburg.) -
383
Optimisation of the Accelerator Control by Reinforcement Learning: A Simulation-Based Approach
Optimizing control systems in particle accelerators presents significant challenges, often requiring extensive manual effort and expert knowledge. Traditional tuning methods are time-consuming and may struggle to navigate the complexity of modern beamline architectures. To address these challenges, we introduce a simulation-based framework that leverages Reinforcement Learning (RL) [1] to enhance the control and optimization of beam transport systems. Built on top of the Elegant simulation engine [2], our Python-based platform automates the generation of simulations and transforms accelerator tuning tasks into RL environments with minimal user intervention. The framework features a modified Soft Actor-Critic (SAC) agent [3] enhanced with curriculum learning techniques [4], enabling robust performance across a variety of beamline configurations. Designed with accessibility and flexibility in mind, the system can be deployed by non-experts and adapted to optimize virtually any beamline. Early results demonstrate successful application across multiple simulated beamlines, validating the approach and offering promising potential for broader adoption. We continue to refine the framework toward a general-purpose solution—one that can serve both as an intelligent co-pilot for physicists and a testbed for RL researchers developing new algorithms. This work highlights the growing synergy between AI and accelerator physics [1, 3], and the critical role of computational innovation [2] in advancing experimental capabilities.
-
Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement learning: An introduction (2nd ed.). MIT Press. http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html
-
Borland, M. (2000). elegant: A flexible SDDS-compliant code for accelerator simulation. 6th International Computational Accelerator Physics Conference (ICAP 2000). https://doi.org/10.2172/761286
-
Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., & Levine, S. (2018). Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor. In Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (pp. 1861–1870). PMLR.
-
Narvekar, S., Peng, B., Leonetti, M., Sinapov, J., Taylor, M. E., & Stone, P. (2020). Curriculum learning for reinforcement learning domains: A framework and survey. Journal of Machine Learning Research, 21(181), 1–50. https://www.jmlr.org/papers/volume21/20-212/20-212.pdf
Speaker: Anwar Ibrahim (HSE) -
-
384
Газовые системы для ядерно-физических детекторов
Представлены разработанные и созданные авторами газовые системы для детекторов в различных экспериментах. Большая часть систем – рециркуляционного типа, с частичной очисткой газа от влаги и кислорода. Описаны уникальные газовые системы, работающие при больших давлениях (20 бар) и при давлении ниже атмосферного, обеспечивающие чистоту рабочего газа до 1ppb, двухконтурные системы с дополнительным контуром циркуляции, а также система с двумя независимыми контурами для разных газов. Рассматриваются различные методики очистки газов и измерения остаточных примесей. Результаты 30-летней деятельности по разработке и созданию газовых систем приведены в докладе.
Speaker: Пётр Кравцов (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) -
385
Разработка системы сцинтилляционных детекторов для подавления космического излучения в рамках проекта по исследованию реакции ядерного dd-синтеза с поляризацией исходных частиц при низких энергиях (PolFusion)
Интерес к ядерному dd-синтезу вызван как со стороны фундаментальных исследований и астрофизики [1], так и прикладной науки, в частности, в области создания термоядерных реакторов [2]. В 1967–1968 годах в Курчатовском институте была предложена идея исследования реакции ядерного dd-синтеза с использованием поляризованных пучков дейтронов [3]. Развитие данной идеи получило продолжение в ядерно-физическом эксперименте PolFusion (Polarized Fusion), осуществляемого в Петербургском институте ядерной физики (Гатчина), целью которого является изучение реакции синтеза 2H(d,p)3H и 2H(d,n)3He с поляризацией исходных частиц при низких энергиях в диапазоне 10–100 кэВ.
Результаты тестового сеанса 2020 года [4] с использованием паровой мишени показали, что ввиду низкой скорости счета эксперимента и высокой чувствительности детекторной системы, вторичное космическое излучение, которое преимущественно состоит из мюонов высоких энергий, вносит существенный вклад в результирующий энергетический спектр продуктов реакции ядерного синтеза. Для подавления данного эффекта было предложено создание системы сцинтилляционных детекторов, основной задачей которых является регистрация высокоэнергетичных мюонов и их исключение из результирующего энергетического спектра продуктов реакции [5].
В работе рассматривается разработка системы сцинтилляционных детекторов для подавления космического излучения. Работа включает следующие этапы: моделирование центральной детекторной системы эксперимента PolFusion и сцинтилляционной детекторной системы, разработка и тестирование сцинтилляционной детекторной системы и результаты тестовых измерений космического излучения.
1. Pisanti [et al]. // Primordial Deuterium after LUNA: concordances and error budget. - 2020. - 10.48550/arXiv.2011.11537.
2. Yang [et al.]. Effect of the Fusion Fuels’ Polarization on Neutron Wall Loading Distribution in CFETR // Fusion Science and Technology. -2021.– Vol. 78. – P. 1-10.
3. Adjasevich B., Antonenko V. Measurements of the polarization correlation coefficients in reactions d (d, p) t and d (d, n) 3He // Preprint IEA-2704, Moscow, 1976.
4. Solovyev A. Optimization and first tests of the experimental setup to inves-tigate the double-polarized DD-fusion reactions // JINST. – 2020. - Vol. 15. № 6 (P0520). - P. 15.
5. A. Yu. Rozhdestvenskij, A. V. Andreyanov, A. A. Vasilyev [et al.] Project on Research of Nuclear dd Synthesis with Polarization of Initial Particles at Low Energies (PolFusion) // Physics of Atomic Nuclei. – 2024. – Vol. 87, No. 3. – P. 224-229.Speaker: Антон Рождественский (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ)
-
382
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics БХА (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
БХА
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Евгений Андронов (Санкт-Петербургский государственный университет)-
386
Net-proton high-order cumulants in event-by-event studies in high energy A+A collisions at NICA energies
The region of nucleus-nucleus collision energies $\sqrt{s_{NN}}\approx$ 2-10 GeV is very attractive for the detailed study of the phase diagram of strongly interacting matter, where the first-order phase transition and the existence of the critical endpoint (CEP) are predicted by the QCD. So far, the experimental investigations carried out in this energy range at SPS and at RHIC have shown no convenient evidence for the critical phenomena. The non-Gaussian fluctuations [1] of conserved quantities, like net electric charge Q, net strangeness S, net baryon number B, near the QCD critical point”, could be very sensitive to the proximity of the critical point. Studies of the energy dependence of higher-order cumulants of net-protons (as a proxy for net baryon number) were started in BES-I and are in progress in BES-II programs at RHIC [2,3]. In particular, recent precision measurement for net-proton cumulant ratios vs. centrality across Au+Au collision energies at RHIC showed some hints of the non-monotonic energy dependence [2,3]. However, the non-dynamical contributions to fluctuations of protons and net-protons could be large [4]. These trivial volume fluctuations are to be carefully taken into account before comparison to theory.
In this report we argue that the current experimental approaches are still lacking the proper event-by-event estimate of the interaction volume. Assumption of the mean value of the interaction volume for the given class of selected events, including the case of Centrality Bin Width Correcrition (CBWC) procedure, used by STAR at RHIC, is introducing the bias into the values of net-proton cumulant ratios due to the inevitable mixture of the events with different impact parameters. We focus in this report on the minimization of the role of trivial volume fluctutions that should be under strict control in data analysis in order to reval the dymanical physics fluctuations effects of interest. We propose to use the reduced cumulants, where both the cumulants and the volume of interaction are defined for each event. The last procedure requires the event-by-event estimates of the most probable value of number of participation nucleons (Npart) by using such approach as [5] or the ML technique [6] that is in currently in progress.Acknowlegments: The author acknowledges Saint-Petersburg State University for a research project 103821868.
- M.A.Stepanov, Phys. Rev. Lett. 102, (2009) 032301.
- (The STAR Collaboration), PRL 126 (2021) 092301, PRL 128 (2022) 20230 .
- (The STAR Collaboration), arXiv:2504.00817v1.
- P.Braun-Munzinger, A.Rustamov, J.Stachel, Nuclear Physics A960 (2017) 114–130.
- F.F. Valiev , V.V. Vechernin, G.A. Feofilov, Bull.Russ.Acad.Sci.Phys. 88 (2024) 8, 1312-1318.
- K. Galaktionov, V. Rudnev and F. Valiev, Physics of Particles and Nuclei, 2023, Vol. 54, No. 3, pp. 446–448.
Speaker: Grigory Feofilov (Saint Petersburg State University) -
387
Scaling relations for anisotropic flow at NICA energies
Measurements of the anisotropic collective flow of particles produced in relativistic heavy ion collisions play an important role in the study of the transport properties of strongly interacting matter. In this paper we present the results of the most complete systematic study of the dependence of the anisotropic collective fluxes on the collision energy from 2.4 GeV to 11 GeV based on the available data and discuss them using different scaling relations for the azimuthal anisotropy.
Speaker: Arkadiy Taranenko (MEPHI/VBLHEP JINR) -
388
The vorticity and acceleration phenomena in the heavy-ion collisions at the NICA complex energies
In this topic, the discussion will focus on vorticity and acceleration of the nuclear medium created in heavy-ion collisions at the NICA complex energies. These phenomena will be analyzed within the framework of the Parton-Hadron-String Dynamics (PHSD) model. The vorticity field is the object of study due to its connection to the spin polarization and also due to its intricate space-time structures, such as vortex rings. Conversely, an acceleration in heavy-ion collisions signifies a novel direction in the current research by the scientific community, especially due to its influence on phase transitions. In this study, the acceleration (and the Unruh temperature) space-time distributions will be presented and subsequently compared with the temperatures of the medium for the various phases of matter [1]. Also we will discuss some results studied in our previous works [2-5].
[1] G. Yu. Prokhorov, D. A. Shohonov, O. V. Teryaev, N. S. Tsegelnik, V. I. Zakharov. arXiv:2502.10146.
[2] N. S. Tsegelnik, E. E. Kolomeitsev, and V. Voronyuk. Phys. Rev. C, 107(3):034906, 2023.
[3] Nikita Tsegelnik, Evgeni Kolomeitsev, and Vadym Voronyuk. Particles, 6(1):373–384, 2023.
[4] Nikita S. Tsegelnik, Vadym Voronyuk, and Evgeni E. Kolomeitsev. Particles, 7(4):984–1003, 2024.
[5] V. Voronyuk, N. S. Tsegelnik, and E. E. Kolomeitsev. Phys. Rev. C, 111(3):034907, 2025.Speaker: Nikita Tsegelnik (BLTP, JINR) -
389
Production of spectator neutrons, protons and light fragments on fixed targets at NICA
Study of hot and dense baryon-rich matter is a central point of the BM@N [1] and MPD [2] experiments at NICA facility. Both experiments are equipped with forward detectors capable to measure the energies of spectator nucleons and nuclear fragments representing remnants of initial nuclei beyond their hot overlap region (fireball) [1, 2]. The signals from the forward detectors can be used to determine the centrality of each nucleus-nucleus collision event and its reaction plane [3]. In addition, the BM@N experiment is equipped with the Highly-Granular time-of-flight Neutron Detector (HGND) [4]. Therefore, the procedure of centrality and event plane determination should be based on a reliable model of the production of spectator protons, neutrons and nuclear fragments.
In this work, the microscopic ultra-relativistic quantum molecular dynamics (UrQMD) transport model [5, 6] was coupled with the MST-clustering and statistical decay models previously used in the Abrasion-Ablation Monte Carlo for Colliders model [7-9]. In this model combination, the primary evolution during the first few hundred fm/c is calculated using UrQMD. The MST-clustering algorithm is then used to determine the bound excited spectator fragments [9]. Their decay is simulated using evaporation, SMM and Fermi Breakup models from the Geant4 toolkit [10]. The yields of neutrons and light nuclear fragments, their rapidity and transverse momentum distributions, were calculated and compared with the experimental data on the collisions of 600A MeV Sn + Sn [11] and 10.6A GeV Au + Au [12]. In this combined approach, the multiparticle evolution of individual nucleons simulated with UrQMD is supplemented by their clustering to simulate the production of spectator nuclear fragments and their response in forward detectors.[1] M. Kapishin for BM@N Collaboration, Eur. Phys. J. A 52, 213 (2016)
[2] I. Maldonado for MPD Collaboration, Nuovo Cim. C 47, 238 (2024)
[3] F. Guber et al., JINST 15, C05020 (2020)
[4] S. Morozov et al., Nucl. Instrum. Meth. A 1072, 170152 (2025)
[5] M. Bleicher et al., J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 25, 1859 (1999)
[6] S. A. Bass et al., Prog. Part. Nucl. Phys. 41, 225 (1998)
[7] N. Kozyrev et al., Eur. Phys. J. A 58, 184 (2022)
[8] A. Svetlichnyi et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 84, 911 (2020)
[9] R. Nepeivoda et al., Particles 5, 40 (2022)
[10] J. Allison et al., Nucl. Instrum. Meth. A 835, 186 (2016)
[11] P. Pawlowski et al, Phys. Rev. C 108, 044610 (2023)
[12] M.L. Cherry et al., Z. Phys. C 62, 25 (1994)Speaker: Dr Aleksandr Svetlichnyi (INR RAS, MIPT(NRU))
-
386
-
9. Poster Session Атриум (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
Атриум
Санкт-Петербургский Государственный Университет
-
390
Исследование возможностей метода активной мишени по определению поляризуемостей протона и нейтрона
Исследование рассеяния гамма-квантов (комптоновского рассеяния) на нуклонах позволяет определить одну из фундаментальных характеристик нуклона — поляризуемость, которая имеет две составляющие: электрическую и магнитную, характеризующие отклик нуклона на действие внешних электрических и магнитных полей. Поляризуемости протона и нейтрона можно определить при измерении зависимостей дифференциальных сечений комптоновского рассеяния на водороде (дейтерии, гелии) от энергии ($E\gamma$) и угла рассеяния фотонов ($\theta\gamma$) [1]. В НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ был разработан новый метод исследования этого процесса с использованием активной мишени, которая одновременно является газовой мишенью и детектором частиц отдачи [2].
Точность определения параметров поляризуемости определяется статистическими и систематическими ошибками эксперимента. Влияние ошибок измерения сечений комптоновского рассеяния на точность измерения поляризуемостей нуклона было проведено с помощью моделирования сечений методом Монте-Карло. Исследование показало преимущество экспериментов с активными мишенями – точность определения величин поляризуемости выше, для α в 4 и для β в 3 раза по сравнению с последними наиболее точными данными [3], за счет проведения одновременной регистрации как рассеянных фотонов, так и частиц отдачи.
Также для подготовки предложения по проведению эксперимента было проведено моделирование установки с помощью пакета программ Geant4 [4]. Моделировалось падение пучка электронов на вольфрамовую мишень-радиатор толщиной 1 мм, в результате чего был получен спектр тормозного излучения в диапазоне энергий 20-100 МэВ и интенсивностью $2·10^{11}$ с$^{-1}$. Для заданной геометрии двух анодных плоскостей ионизационной камеры, состоящих из 15 анодных сегментов, расположенных под углом 45 градусов, и 12 сегментов, расположенных под углом 22 градуса, были смоделированы сигналы от протонов отдачи, возникающих на определенном аноде, и оценен уровень шумов. Основные шумы связаны с взаимодействием высоко интенсивного ($2·10^{11}$ с$^{-1}$) пучка гамма-квантов с рабочим газом ионизационной камеры. Моделирование подтвердило возможность надежной регистрации сигналов от частицы отдачи с энергией выше 1 МэВ.- V.A. Petrun’kin, Sov. J. Part. Nucl., №12. С. 278 (1981)
- O. Yevetska, S. Watzlawik, J. Ahrens, G.D. Alkhazov, V.P. Chizhov, E.M. Maev et al. New experimental method for investigation of the nucleon polarizabilities, Nuclear instruments and methods, A 618, (2010)
- E. Mornacchi et al., Measurement of compton scattering at mami for the extraction of the electric and magnetic polarizabilities of the proton, Phys. Rev. Lett., 128:132503, (2022)
- Agostinelli et al., Geant4 – A Simulation Toolkit, Nuclear instruments and methods, A 506, (2003)
Speaker: Анастасия Арутюнова (Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт») -
391
A system for collecting and recording data from CAEN electronics in the νGen experiment
Modern data collection systems in experimental nuclear physics are quite extensive in functionality, but as a rule, manufacturers of specialized equipment and software rely on versatility, which can lead to problems in conducting highly specialized measurements. In
In particular, in the νGen experiment, the main task of which is to detect coherent neutrino scattering, it is necessary to lower the detection energy threshold to less than 300 eV. For this purpose, a software package was developed that allows recording waveforms and provides reliable data storage in conditions of high counting speed of the experimental installation.Speaker: Maxim Dovbnenko (JINR) -
392
Determination of sample thicknesses used in measurements of heavy nuclei fission cross sections on the neutron time-of-flight spectrometer GNEIS
Recently, studies of the nuclear fission process [1] induced by neutrons with energy up to 500 MeV have been carried out at the neutron time-of-flight spectrometer GNEIS in the NRC "Kurchatov Institute"-PNPI (Gatchina, Russia) [2]. Determination of the number of nuclei (sample thickness) in the studied samples is one of the main issues in the processing of the obtained data. Therefore, we developed a set-up to determine the number of nuclei in the samples used. The method of alpha counting at a defined solid angle was applied as most optimal for our case [3]. A description of the setup, data acquisition and processing system is presented in this paper. For example, the result of measuring the thickness of the 243Am sample is presented with an analysis of uncertainties.
References:- A. S. Vorobyev, A. M. Gagarski, O. A. Shcherbakov, L.A. Vaishnene, A. L. Barabanov, T. E. Kuz’mina, Measurement of the 236U fission cross section and angular distributions of fragments from fission of 235U and 236U in the neutron-energy range of 0.3-500 MeV, Phys. Rev. C 108, 014621 (2023).
- O.A. Shcherbakov, A.S. Vorobyev, E.M. Ivanov,Spallation neutron source GNEIS, Physics of Particles and Nuclei, v.49, No 1, pp. 81-83, (2018).
- S. Pomme, Methods for primary standardization of activity, Metrologia 44, S17 (2007).
Speaker: Nikita Ol'khovich (B.P. Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute of National Research Center ” Kurchatov institute”) -
393
Improved constraints on the heavy gauge bosons decaying into a vector boson and a Higgs boson at the LHC
The search for physics beyond the Standard Model (SM) is a major focus of the physics program at the Large Hadron Collider (LHC). Since its discovery, the Higgs boson has become a tool in this search. In particular, one may expect new heavy resonances to couple to Higgs bosons and weak vector bosons ($V = W$ or $Z$). Such resonances are expected to occur in a number of theories beyond the Standard Model. Theories that aim to solve the naturalness problem predict the existence of vector resonances as expected in composite Higgs models [1], Little Higgs models,or models with extra dimensions.The extended gauge models are among the best motivated theoretical scenarios beyond the SM that predict the existence of new heavy neutral and charged vector bosons ($Z^\prime$ and $W^\prime$) with their diboson decay modes, $V'\to VV/VH$, caused by $Z-Z'$ and $W-W'$ mixing [2-4]. These models are considered as benchmark scenarios for diboson resonances having spin-1 ($W' \to WZ$ or $WH$, $Z' \to WW$ or $ZH$), produced predominantly via quark-antiquark annihilation ($q{\bar{q}^\prime} \to W'$, $q\bar q \to Z'$).
The full CMS and ATLAS Run 2 datasets with time-integrated luminosity of 137 fb$^{-1}$ and 139 fb$^{-1}$ in the diboson channels are used to probe benchmark models with extended gauge sectors such as left-right symmetric (LR) and the sequential standard model (extended gauge model, EGM), that predict the existence of neutral Z$^\prime$ - and charged W$^\prime$ - bosons decaying to a pair of bosons ZH and WH in the semileptonic final state. These benchmark models are used to interpret the results. Exclusion limits at the 95\% C.L. on the $Z^\prime$ and $W^\prime$ resonance production cross section times branching ratio to electroweak gauge boson pairs in the resonance mass range between 1.0 and $5$ TeV are here converted to constraints on Z-Z$^\prime$ and W-W$^\prime$ mixing parameters and masses. We present exclusion regions on the parameter spaces of the $Z^\prime$ and $W^\prime$ and show that the obtained exclusion regions are significantly extended compared to thosederived from the previous analysis performed with Tevatron data as well as with the CMS and ATLAS data collected at 7 and 8 TeV in Run1 [5]. The reported limits are the most restrictive to date.
1. K.Agashe, R.Contino and A.Pomarol, Nucl. Phys. B 719, 165 (2005).
2.G.F.Giudice, C.Grojean, A. Pomarol and R. Rattazzi, JHEP 0706, 045 (2007).
3. P. Langacker, Rev. Mod. Phys. 81, 1199 (2009).
4. S. Navas et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 110, 030001 (2024).
5. P.Osland, A.A.Pankov and I.A. Serenkova, Phys. Rev. D 103, no. 5, 053009 (2021).Speaker: Inna Serenkova (Gomel State Technical University, Belarus) -
394
Improving spatial resolution in experiments with tagged 14.1 MeV neutron beams
One of the issues studied in the frame of the TANGRA project (TAgged Neutrons and Gamma-RAys) is the development of a method for position-sensitive elemental analysis of various samples. This method is based on the detection of prompt γ-rays emitted in the (n, xγ) reactions induced by fast 14.1 MeV neutrons. Position sensitivity is achieved through the tagged neutron method, which is based on the detection of the secondary α-particles resulting from the 3H(d,n)4He reaction which are accompanying the neutron emission, using a special position-sensitive detector (PSD) built in the neutron generator. So, the information about the direction and time moment of neutron emission from the tritium target can be obtained. In this case, spatial resolution is provided by both the solid angle covered by individual pixel of the PSD and the size of the deuteron beam spot on the tritium target. In the presentation the experimental and calculated data on spatial resolution of the setup for elemental analysis based on the neutron generator ING-27, as well as the method for its improvement based on the unfolding algorithms will be presented. The present study was supported by the Russian Science Foundation (grant no. 23-12-00239).
Speaker: Pavel Prusachenko (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research) -
395
Investigation of alpha particle emission in nuclear track emulsion irradiated by relativistic muons
This study presents the results of exposing a nuclear track emulsion (NTE) to a relativistic muon beam. Exposure of NTE layers by relativistic muons enables the simultaneous study of nuclear multifragmentation under the influence of a purely electromagnetic probe [1]. The primary objective is to identify and measure the lengths of short-range alpha particle tracks generated by muon-nucleus interactions within the NTE. The formation of such tracks occurs through the 3$\alpha$ fragmentation of carbon nuclei in $\mu + {}^{12}\text{C} \rightarrow \mu' + 3\alpha$ interactions induced by relativistic muons. The ionization losses of alpha particles within the NTE were simulated using the SRIM program, enabling the accurate reconstruction of their kinetic energies for each observed event. The track reconstruction provided an precise determination of the emission angles of the alpha particles. Furthermore, this methodology allowed for the extraction of combinatorial spectra of invariant masses for alpha particle systems. The findings presented here, part of the BECQUEREL experiment [2], were compared with those obtained from organic scintillators, which were also used in studying 3$\alpha$ fragmentation of ${}^{12}\text{C}$ nuclei [3]. This comparison aims to deepen our understanding of muon-induced interactions in both nuclear emulsion and organic scintillators.
References
1. D. A. Artemenkov, V. Bradnova, et al., Phys. At. Nucl. 78, 579-585 (2015), doi:10.1134/S106377881504002X [arXiv:1407.4572].
2. P. I. Zarubin, Lect. Notes Phys. 875, 51-93 (2014), doi:10.1007/978-3-319-01077-9_3 [arXiv:1309.4881].
3. Gorin A. M. et al. Physics of At. Nucl. 86, 2478-2486 (2023), doi:10.1134/S106377882311011X.Speakers: Marimuthu Natarajan (JINR), Ekaterina Khabarova (SPbPU) -
396
Investigation of the neutron beam parameters of the time-of-flight spectrometer GNEIS
The paper presents the digital parameter measurement results processing of the neutron time-of-flight spectrometer GNEIS at the NRC «Kurchatov Institute» – PNPI in the neutron energy range from 0.3 to 500 MeV. The energy spectrum of the neutrons was measured using an ionization fission chamber with a 235U target. An assembly of two position-sensitive multiwire proportional low-pressure counters was used to determine the beam profile. The data accumulation and processing system was organized on the basis of 8-bit signal digitizers with a sampling rate of 500 MHz. Python language with NumPy and pandas data processing libraries, matplotlib library for graphical display of processing results was chosen as the machine processing tool. To speed up the processing of the raw data and display of the obtained results, the interactive IPython interpreter in the Jupyter-notebook variant was used.
Speaker: Alexandra Tiagelskaia (Petersburg Nuclear Physics Institute named by B.P. Konstantinov of National Research Center ”Kurchatov institute”) -
397
Machine learning predictions for cross-sections of evaporation residues produced in some alpha-induced reactions
The estimation of nuclear reaction cross-section data is a complex and imperative method that requires professional researchers to provide complete recommended values through the analysis of experiments, and development of physical reaction models. The modern techniques of evaluation have overcome some limitations of traditional methods, such as the assumption of perfect models, linear error propagation, and the normal distribution of uncertainty, making the evaluation results more objective and accurate. Though the theoretical prediction is one of the foundations of nuclear data evaluation, high precision models imply the complexity, which may lead to unreliable extrapolation ability. In this work, we report that machine learning is making progress in the field of nuclear data to predict the nuclear reaction cross sections of radioisotopes produced in alpha induced reactions. In the present work, the production yield of radioisotope has been calculated using statistical nuclear reaction model code ALICE-91, EMPIRE3.2 and TALYS 2.0. The experimental data available in the EXFOR library, based on measurement carried out in various nuclear research laboratories across the world, is adopted for analysis. A set of four authoritative machine-learning algorithms is deployed in this study, including XGBoost (Extreme Gradient Boosting), SVR (Support Vector Regression), RF (Random Forest), and Cubist. Each algorithm offers unique advantages in handling complex data structures and capturing nonlinear relationships. The results of this study are evaluated using a range of statistical metrics, including Root Mean Square Error (RMSE), Standard Deviation (SD), and Pearson Correlation Coefficient (r). Comparative analysis with experimental data further elucidates the performance of the proposed machine learning models, highlighting their effectiveness in predicting cross-section data. It is important to note that this research work contributes to advancing computational methodologies in nuclear physics and highlights the potential of machine learning in enhancing predictive capabilities for complex nuclear data.
Speaker: Avinash Agarwal (Department of Physics, Bareilly College, Bareilly. M J P Rohilkhand University, Bareilly) -
398
Quasi-classical description of the helium atom and the behavior of constituent quarks for hadrons
As is known, N. Bohr constructed the first semi-quantum single-particle theory of the hydrogen atom, which led to a coincidence with the subsequently developed quantum mechanics for the radius of the hydrogen atom and its energy of the ground and excited states. For the helium atom, which has two electrons, difficulties arose in Bohr's theory. They also exist in quantum mechanics, not to mention the relativistic quantum theory of many bodies. However, when considering two electrons in a helium atom, one can simplify the problem and limit oneself to considering the motion of electrons located at opposite ends of a circular orbit with a nucleus at its center. Such consideration is found in the scientific literature [1].
In this approach we approached the problem of hadron physics, where the interaction potential at a distance r of constituent quarks can be chosen in the form of the Cornell potential [2], containing an attractive term (string tension for quarks) br and a QCD term a/r. The parameters of the semi-phenomenological Cornell potential a and b are not well defined. In many works (see, for example, [2-4]) they are often determined for meson resonances (a two-particle problem). In this work we determined these two parameters from two equations for the expressions of the pion and proton masses, the masses and radii of which are known. The expressions for the masses taking into account the relativistic motion of constituent quarks turned out to be quasi-classical, but at the same time it was possible to bypass the problem of the relativistic quantum problem of two and three bodies [5]. Using the parameters of the Cornell potential that we found, we determined the masses and radii of the meson resonances. We also found approximate expressions for the wave functions for the spectrum of heavy Ψ quarkonium, consisting of c and anti c quarks.Such an independent determination of the parameters of the Cornell potential has important implications for hadron spectroscopy and the problem of reaching the critical point for quark-gluon plasma in constructing models of tetraquarks and pentaquarks. The transition to a semiclassical hydrodynamic approach can establish a connection between the interaction forces of quarks in hadrons and the interaction of hadrons in final nuclei [6.7]. The helium atom model can be useful in the search for dark helium atoms [8], as well as in the detection of new particles - candidates for the role of dark matter particles [9].
- V.V. Belov, V.A. Maksimov, Theor. Math. Phys. $\bf 151$, 659( 2007).
- A.I. Vainshtein, M.B. Voloshin, V.I. Zakharov, V.A. Novikov, L.B. Okun, M.A. Shifman, Physics–Uspekhi, $\bf 20$, 796 (1977).
- A.A. Bykov, I.N. Dremin, A.V,Leonidov, Sov. Phys. Usp. $\bf 27$ 321 (1984).
- M.N. Sergeenko, Proc. Nat. Acad. Sci. Belarus. Рhys. and Math., $\bf 57$, 46 (2021).
- I.T. Todorov, Ann. Inst. H. Poincare, $\bf A28$, 207 (1978).
- M.V. Polyakov, Phys. Lett. B $\bf 555$, 57 (2003).
- A.T. D’yachenko, Phys. At. Nucl. $\bf 87$, 646 (2024).
- T.E. Bikbaev, M.Yu. Khlopov, A.G. Mayorov, arXiv:2502.12407v1 [hep-ph]
- M.V. Arkhipov, A.T. D’yachenko, Tech. Phys. Lett.$\bf 50$ (12), 8 ( 2024).
Speaker: Alexander D'yachenko (Petersburg Nuclear Physics Institute of NRC "Kurchatov Institute" and Emperor Alexander I Petersburg State Transport University) -
399
Self-similarity method in relativistic physics
The basic ideas of the self-similarity method in relativistic physics are presented. The self-similarity method allows one to reduce the number of independent variables for description of complex phenomena of a particular class, self-similar solutions are found in an analytical form, the character of behavior of physical quantities does not change with the change of scales of independent variables that is compensated by self-similarity transformation of other dynamic variables.
A particular case of the self-similarity is the well known scaling behavior of the reaction cross sections.
The specific features of the self-similarity method for description of particle production in relativistic nuclear collisions where the scaling approach fails are described. The collective effects in relativistic collisions are also discussed.Speaker: Elina Baldina (LHEP JINR) -
400
State-of-art imaging in nuclear track emulsion
In spite of the fact that nuclear track emulsion (NTE) was developed more half a century ago, it still remains a universal and cost-efficient detector. The application of NTE is especially well grounded where tracks of nuclear particles cannot be reconstructed using electronic detectors. At the JINR Nuclotron the BECQUEREL experiment [1] is performed a program of irradiation of NTE stacks in the beams of relativistic isotopes of beryllium, boron, carbon and nitrogen, including radioactive ones to study their cluster structure. Сharge-topology distributions of final states have an individual character appearing to be some kind of a signature of the isotope under study. The NTE technique allows one to observe the 3D images of few-body ensembles originated in peripheral collisions and explore the fragmentation of the relativistic nuclei down to the most peripheral interactions - nuclear “white” stars [2].
The competitive character of the novel NTE is proved in measurements of slow α particles and heavy ions (summarized in [3]). The possibility of α spectrometry was verified and the atom drift effect is established in measurement of decays of 60 MeV 8He nuclei implanted in NTE [4]. Correlations of α particles in splitting of 12C nuclei by 14.1 MeV neutrons [5] as well as 7Li and 4He nuclei produced in 10B breakup by thermal neutrons in boron-enriched NTE [6] are studied. NTE samples were irradiated with slow Kr and Xe ions [7,8]. Surface irradiations of NTE samples were performed with automatic movement of the 252Cf source [9].
Recently, samples of reproduced NTE were also irradiated with 2.5 and 160 GeV muons (started in [10]). Such irradiation allows one to study few-body fragmentation under the action of an electromagnetic probe [11]. Multiphoton exchange or virtual photon–meson transformations can serve as the fragmentation mechanisms. It was established that the breakup of carbon nuclei into trios of α particles has a nuclear diffraction rather than electromagnetic character. Thus, the connection of high energy and low energy nuclear physics appears.
Classic observations of fundamental importance presented in “The Study of Elementary Particles by the Photographic Method” by C. H. Powell, P. H. Fowler and D. H. Perkins can serve as a model of clarity in our time. Our research is implemented in keeping with this tradition by state-of-art means. The rich collection of videos and images of the nuclear few-body processes gathered at the Web site is presented [1]. In terms of applications they are relevant for the development of advanced systems of automatic search for nuclear interactions, as well as for university education.References
1. The BECQUEREL Project WEB site: http://becquerel.jinr.ru/
2. http://becquerel.jinr.ru/movies/movies.html
3. P. I. Zarubin “Recent applications of nuclear track emulsion technique” Phys. At. Nucl., 2016, 79, 1525-1535; DOI: 10.1134/S1063778816130093. https://link.springer.com/article/10.1134/S1063778816130093
4. http://becquerel.jinr.ru/miscellanea/8He/8He.html
5. http://becquerel.jinr.ru/miscellanea/DVIN/dvin11.html
6. http://becquerel.jinr.ru/miscellanea/IBR-2/IBR-2.html
7. http://becquerel.jinr.ru/miscellanea/IC-100/IC-100.html
8. http://becquerel.jinr.ru/miscellanea/U400M/U400M.html
9. http://becquerel.jinr.ru/miscellanea/Prague-dosimetry/Prague-dosimetry.html
10. D. A. Artemenkov et al. “Study of nuclear multifragmentation induced by ultrarelativistic μ-mesons in nuclear track emulsion” J. Phys.: Conf. Ser. 675 022022. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/675/2/022022Speaker: Irina Zarubina (JINR) -
401
Анализ амплитуды рождения двух невзаимодействующих фононов в приближении сепарабельных сил
Рассмотрен микроскопический подход к решению уравнения для амплитуды рождения двухфононных возбуждений в приближении невзаимодействующих фононов. Общий метод основан на теории конечных Ферми-систем (ТКФС) А.Б. Мигдала [1], и развит в работах [2, 3]. Решение данного уравнения позволяет последовательно описывать коллективные возбуждения в ядрах с учетом парных корреляций и обменных эффектов [4], и может быть использовано для расчета эффекта тэдпола [2, 3]. Для практической реализации нашего подхода было использовано важное упрощение – приближение сепарабельных квадруполь-квадрупольных сил с параметрами из [5], см. работу [6], которое широко применяется в квазичастично-фононной модели [5, 7]. Полученное решение уравнения применяется для построения и анализа выражения для тэдпола.
- А. Б. Мигдал, Теория конечных ферми-систем и свойства атомных ядер (Наука, Москва, 1967; Wiley, New York 1967).
- V. A. Khodel and E. E. Saperstein, Phys. Rep. 92, 183 (1982).
- S. P. Kamerdzhiev and M. I. Shitov, Eur. Phys. J. A 56, 265 (2020).
- S. A. Fayans, A. P. Platonov, G. Graw and D. Hofer, Nucl. Phys. A 577, 557 (1994).
- N. Ryezayeva et al., Phys. Rev. Let. 89, 272502 (2002).
- Ю. В. Ковалева, С. П. Камерджиев, М. И. Шитов, ЯФ 87, 451 (2024).
- J. Bryssinck et al., Phys. Rev. C 59, 1930 (1999).
Speaker: Егор Филин (Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Московский физико-технический институт) -
402
Выбор оптимальной толщины мишени BaCO3 в исследовании обычного мюонного захвата в эксперименте MONUMENT
Эксперимент "Монумент" — это проект, направленный на проведение экспериментальных измерений мюонного захвата на дочерних (по отношению к кандидатам на 2β-распад) ядрах [1]. Данные измерения будут важны для проверки точности теоретических расчетов ядерных матричных элементов.
В настоящее время существует ряд фундаментальных задач в физике, одной из которых является определение природы нейтрино. Сегодня наиболее эффективным для этого считается процесс безнейтринного двойного бета-распад (0ν2β) ядер, так как он возможен только в том случае, если нейтрино имеет ненулевую массу и, если оно идентично своей античастице. Известно, что на скорость протекания реакции 0ν2β-распада влияет не только масса нейтрино, но и величина ядерного матричного элемента[1]. Для исследования этих важных процессов двойного бета-распада подходит обычный мюонный захват.
Важным в таких экспериментах, как "Монумент", является выбор соответствующих мишеней, а также их моделирование при помощи GEANT4. Исследование прохождения мюонов через вещество, а также процессов, протекающих в результате мюонного захвата, позволит подобрать оптимальную толщину мишени, а так как захват проходит на изотопах, соответственно материал имеем высокую цену.
В настоящей работе представлены результаты моделирования мюонной триггерной системы, состоящей из сцинтилляционных счетчиков C0, C1, C2, C3, с мишенями из Fe, Al, Cu [2], а также BaCO3. Промоделированы процессы мюонного распада в мишени с оптимизированным пучком мюонов, соответствующему экспериментальному.
Выявлена оптимальная толщина мишени для железа, алюминия, меди и карбонада бария, которые составили 1.1 мм, 1.4 мм, 1.3 мм и 1.8 мм, при которых наблюдается наибольшее число захватов мюонов.Список литературы.
1. D. Zinatulina et al. PhysRevC.99.024327(2018).
2. T. Suzuki and D. F. Measday PhysRevC.35.2212(1987).Speaker: Артём Быстряков (Лаборатория ядерных проблем им. Джелепова, Объединенный институт ядерных исследований, ул. Жолио-Кюри, 6, 141980, Дубна, Россия; Государственный университет «Дубна», ул. Университетская, 19, 141980, Дубна, Россия; Физический институт им. В.А. Лебедева РАН, Ленинский пр., 53, 119991, Москва, Россия) -
403
Инвариантные параметры спектров частиц в реакциях поглощения отрицательных пионов ядрами
Выполнен анализ параметров спектров заряженных частиц p, d, t и 3,4He, образующихся при поглощении отрицательных пионов [1-3] ядрами и в ядерных столкновениях при высоких энергиях [4, 5]. Показано, что инвариантные наклоны спектров, измеренные при поглощении пионов, близки к соответствующим значениям для кумулятивных частиц, образующихся в результате ядерных реакций при энергиях ~ 500 МэВ/нуклон. В то же время наблюдается заметная разница в выходах ядер тритонов и 3Не для указанных типов реакций, что указывает на проявление изоспиновой природы поглощения пионов.
1. Yu.B. Gurov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 78, 1375 (2014).
2. Yu.B. Gurov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 79, 520 (2015).
3. Yu.B. Gurov et al., Phys. Atom. Nucl. 82, 351 (2019).
4. A.V. Blinov et al., Phys. Atom. Nucl. 69, 1439 (2006).
5. V.K. Bondarev, Phys. Part. Nucl. 28, 13 (1997).A comparative analysis of the parameters of the spectra of p, d, t and 3,4He particles formed by the absorption of negative pions [1-3] and in nuclear collisions at high energies [4, 5] is performed. It is shown that the invariant slopes of the spectra measured during pion absorption are close to the corresponding values for cumulative particles from nuclear reactions at energies of ~ 500 MeV/nucleon. At the same time, there is a noticeable difference in the yields of tritons and 3He nuclei for the two types of reactions, indicating the manifestation of the isospin nature of pion absorption.
Speaker: Юрий Гуров (Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна, Россия; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, Россия) -
404
Исследование динамики пучка в ЭЦР источнике
Основной методической сложностью при проектировании ЭЦР-источников является корректное моделирование динамики низкоэнергетических сильноточных пучков. В условиях малых кинетических энергий частиц доминирующее влияние на физику процессов оказывает поле пространственного заряда пучка. Для решения этой самосогласованной задачи эффективным подходом являются различные модификации метода «трубок тока», реализованные в программных пакетах CST Particle Studio, IBSimu и «СУМА» [1-3].
В работе исследована динамика ионного пучка в трехэлектродной системе экстракции ЭЦР-источника с использованием трех пакетов моделирования. Комбинированный подход позволил учесть преимущества каждого пакета: параметрическая оптимизация системы в CST и гибкий подход к моделированию в IBSimu и "СУМА".
Моделирование в CST Particle Studio позволило определить оптимальную геометрию экстракционной системы и значения потенциалов на электродах. Эти параметры были использованы в качестве начальных условий для последующего моделирования в пакетах IBSimu и "СУМА". Полученные в этих программах данные о динамике пучка позволили скорректировать граничные условия на плазменной границе в CST Particle Studio, что привело к уточнению значений потенциалов и геометрии системы. Согласование результатов, полученных во всех трёх программах, повышает достоверность проведённых расчётов. В результате получен обширный массив данных, включающий характеристики пучка для различных конфигураций источника.
Дополнительно исследовано поведение пучка при отклонении от оптимизированных параметров, что позволяет моделировать реальные условия эксплуатации ионного источника.
- CST Studio Suite: https://www.3ds.com/products/simulia/cst-studio-suite
- IBSimu: https://ibsimu.sourceforge.net
- Ращиков В.И. Расчет электромагнитных полей в структурах сложной геометрии. В кн.: Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-физические исследования. Вып. 10 (18). — М.: 1990
Speaker: Александр Макаров (НИЯУ МИФИ) -
405
Исследование новых закономерностей в нуклон-нуклонных взаимодействиях с использованием свойств пространства Лобачевского
В настоящее время теория ядерных взаимодействий далека от завершенности. До сих пор, для описания экспериментов в релятивистской ядерной физике применяются приближенные модели и подходы, основанные на более простых примерах ядерных процессов. Наиболее сложной, с точки зрения теоретической интерпретации экспериментальных исследований, является область перехода от описания ядерной материи в протон-нейтронной модели ядра, к области, где существенно влияние внутренних кварк-глюонных степеней свободы нуклонов. В частности, одной из наиболее важных проблем релятивистских взаимодействий, является определение условий, при которых адроны теряют свою индивидуальность и главную роль в ядерных взаимодействиях начинают играть субнуклонные степени свободы. Применение геометрии Лобачевского в пространстве быстрот дает принципиально новый подход описания ядерных процессов в области высоких энергий [1].
В данной работе проводится исследование новых явлений в процессе взаимодействия нейтрона с протоном мишени при энергиях налетающего нейтрона от 1 до 5 ГэВ. При измеренных в эксперименте значений импульсов и углов разлета продуктов реакции, применяя геометрию Лобачевского, вычисляются их быстроты, дефекты образованных треугольников по быстротам зарегистрированных частиц и периметры треугольников.
Треугольник характеризуется дефектом, который прямо пропорционален его площади. При анализе соотношений дефектов к периметрам треугольников, образованных частиц, выявляются новые эффекты взаимодействия в релятивистских процессах [2, 3]. Разработан программный код, с помощью которого вычислены быстроты продуктов реакции и дефекты треугольников в пространстве Лобачевского во всех обработанных событиях np→ppπ$^-$.
Наибольший интерес данного исследования ожидается в рассмотрении конфигураций в пространстве относительных быстрот. Рассмотрены реакции, когда одна из частиц продуктов реакции приобретает относительно малый импульс на фоне больших импульсов между остальными частицами события. Это так называемые «мягкие процессы» на фоне жестких процессов при взаимодействии нейтрона с протоном. Эта область релятивистской физики ядра пока малоизучена.
1. Балдин А. А. Пространство Лобачевского в релятивистской ядерной физике // Применение и развитие идей Лобачевского в современной физике, Дубна 2004 г. 103-116 с.
2. Черников Н. А. Геометрия Лобачевского и релятивистская механика // Физика элементарных частиц и атомного ядра, Дубна, Том 4, Вып. 3, 1973 г, 773-810 с.
3. Широков П. А. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского, М. Наука, 1983 г, 80 с.
4. E. Baldina A. Baldin, Lobachevsky Space in Analysis of Relativistic Nuclear Interactions. New Phenomenon - Directed Nuclear Radiation, Dubna, 8 с.Speaker: В.С. Темирбулатов (Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна) -
406
Исследование характеристик полей формируемых на установке дозиметрической бета-излучения
Установка дозиметрическая бета-излучения УДБ-АТ200 предназначена для воспроизведения единиц поглощенной дозы, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощности в тканеэквивалентном веществе с использованием экстраполяционной камеры и передачи полученных единиц рабочим эталонам и дозиметрам бета-излучения.
В состав установки входит подвижный блок излучателя, механизм позиционирования, стационарный стол для экстраполяционной камеры, измерительный стол для размещения калибруемых дозиметров и фантомов, блок и пульт управления. Предусмотрено дистанционное управление установкой, а также проведение калибровки и расчетов с использованием прикладного программного обеспечения.
Для формирования радиационных полей используются радионуклидные дозиметрические источники бета-излучения стронций-90+иттрий-90, криптон-85 и прометий-147. Источники помещаются в специальные держатели из материалов, предусматривающих радиационную защиту от бета-частиц, а также тормозного излучения, возникающего в элементах конструкции источника.
При формировании эталонных радиационных полей бета-частиц источники применяются совместно с выравнивающими фильтрами из полиэтилентерефталата, обеспечивающими однородность поля по сечению пучка в месте расположения калибруемого дозиметра.
Экстраполяционная камера представляет собой ионизационную камеру с параллельными электродами, в которой масса воздуха измерительного объема меняется при изменении расстояния между электродами. Подвижный измерительный (собирающий) электрод экстраполяционной камеры перемещается относительно фиксированного входного окна (потенциального электрода) с использованием системы прецизионного микрометрического перемещения.
В докладе представлены результаты исследования зависимости мощности поглощенной дозы от расстояния и от точности позиционирования стандартных дозиметрических источников бета-излучения, исследована неравномерность профиля полей бета-излучения, создаваемых источниками из радионуклидов стронций-90+иттрий-90, криптон-85 и прометий-147.Speaker: Юлия Береснева (Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» г. Минск, Республика Беларусь) -
407
Компактный калибровочный источник нейтронов на основе нуклида 252Cf и кремниевого полупроводникового детектора
Для многих экспериментов по поиску тёмной материи, основанных на регистрации ядер отдачи, а так же нейтринных экспериментов на основе реакции обратного бета-распада, актуальна задача измерения функции отклика, для чего требуется источник нейтронов с хорошо известным спектром. В настоящей работе мы исследуем возможность создания компактного источника нейтронов на основе полупроводникового кремниевого детектора и нуклида 252Cf.
Нуклид 252Cf распадается с периодом полураспада T1/2 = 2.65 г. через два канала: альфа-распад и спонтанное деление с отношением выходов реакций 96.91/3.09, соответственно, причём каждое спонтанное деление в среднем приводит к образованию двух осколков и 3.7 быстрых нейтронов с энергетическим спектром, который хорошо аппроксимируется распределением Максвелла со средней энергией 2.3 МэВ и наиболее вероятной энергией 0.8 МэВ. Так же, при спонтанном делении испускаются в среднем 8 гамма-квантов с энергией около 0.9 МэВ, во временном интервале порядка 1 нс.
В этой работе создан экспериментальный прототип, для которого продемонстрирована возможность использования поверхностно-барьерного кремниевого детектора для регистрации осколков деления и формирования временной привязки к моменту испускания
нейтронов для последующей реконструкции связанных с ними событий в калибруемом детекторе. Оценена температура спектра испускаемых нейтронов, которая составила 1.24±0.18 MэВ.- N. V. Bazlov, E. F. Bubnov, A. V. Derbin et al., Phys. At. Nucl 85, #6, p. 931 (2022)
Speaker: Дмитрий Семенов (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) -
408
О применении генераторов EPOS4, URQMD (LHC) и PhQMD для анализа событий в физике сверхвысоких энергий
Для анализа экспериментов в области сверхвысоких энергий на LHC и NICA требуется сравнение с результатами теоретического моделирования, проводимого с помощью генераторов событий столкновения частиц. Примерами актуальных генераторов событий являются EPOS4.0.0 [1], UrQMD 3.4 (LHC) [2] и PhQMD [3]. Корректное моделирование должно обеспечивать выполнение законов сохранения энергии, электрического, барионного и лептонного зарядов.
В работе проведена проверка выполнения этих законов сохранения при моделировании столкновений протон-протон при энергии в системе центра масс √Snn = 7 ТэВ с помощью указанных генераторов событий и сравнение результатов моделирования с экспериментом ALICE (CERN) [4].
В генераторе EPOS4 обнаружены существенные нарушения законов сохранения энергии, барионного и электрического заряда. В UrQMD и PhQMD эти законы сохранения выполняются, но наблюдается худшее по сравнению с EPOS4 совпадение распределений множественности рождения заряженных частиц с экспериментальными данными.
Предложена идея фильтрации событий генераторов с отбрасыванием событий, нарушающих законы сохранения. Показано, что для UrQMD и PhQMD она полезна, а для EPOS4.0.0 заметно ухудшает соответствие эксперименту модельных распределений множественности.
Работа выполнена при поддержке СПбГУ, шифр проекта 103821868.
1. K. Werner. Phys.Rev. C 108, 064903 (2023).
2. S. A. Bass et al. Progress in Part. Nucl. Phys. 41, 225 (1998).
3. J. Aichelin, et al. Phys.Rev.C 101, 044905 (2020).
4. Adam J. et al. (ALICE Collaboration). Europ. Phys. J. C, 77,1 (2017).Speaker: Константин Размыслов (Санкт-Петербургский государственный университет) -
409
Образование ∆$^0$ - и ∆$^{++}$- изобар в центральных α$^{12}$С-соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон
Известно, что спектры кинематических характеристик вторичных частиц в процессах множественного рождения несут информацию о механизмах их образования. В адрон-ядерных соударениях при высоких энергиях существуют различные механизмы образования вторичных пионов. В частности, при первичных энергиях до нескольких ГэВ на нуклон пионы могут быть образованы от распада различных типов Δ-изобар, от неупругой перезарядки нуклона, как налетающего снаряда, так и ядра-мишени, а также прямого рождения их в паре с разноименными зарядами в результате нуклон-нуклонного или пион-нуклонного взаимодействия.
В работе представлены новые экспериментальные данные о различных характеристиках Δ$^0$ и Δ$^{++}$-изобар, образованных в центральных α$^{12}$С- соударениях при 4.2 ГэВ/с на нуклон.
К центральным соударениям относились события, у которых имеются 4 и более протонов-участников во взаимодействии. Число таких соударений оказалось равным 776, что составляет 6.5 ± 0.2% от общего числа неупругих α$^{12}$С-соударений.
Средние множественности отрицательных и положительных пионов оказались соответственно равными 2.16 ± 0.05 и 1.19 ± 0.04.
Получены распределение ∆$^0$- и ∆$^{++}$-изобар по инвариантной массе π‒р- и π+р- пар для центральных α$^{12}$С-соударениях при 4.2 А ГэВ/с при значениях параметров ε = 0.21 и α = 0.45 и ε = 0.21 и α = 0.4 соответственно. Результаты аппроксимировались формулой Брейта-Вигнера [1]. Соответствующие значение χ$^2$ /ч.с.с.= 0.67 и 0.98 для ∆$^0$- и ∆$^{++}$-изобар.
При поиске дельта изобар рассматривались протоны из области фрагментации мишени с импульсами 0.22 ≤ Рр ≤ 1.25 ГэВ/с. Из рассмотрения исключались так называемые «испарительные» протоны.
Ширина массы ∆$^0$- и ∆$^{++}$-изобары оказались равнымы: 52 ± 3 МэВ и 53 ± 4 МэВ, а масса ∆$^0$- и ∆$^{++}$-изобары 1234 ± 2 МэВ и 1233 ± 2 МэВ соответственно образованных в α$^{12}$С-соударениях при 4.2 А ГэВ/с. Ширина массового спектра и массы Δ$^0$- и ∆$^{++}$-изобары блзко к друг другу.
[1.] D. Higgins, Phys. Rev. D 19, 731 (1979).
Speaker: Prof. Рахматулла Бекмирзаев (Джизакский государственный педагогический университет, Узбекистан, Джизак.) -
410
Объемный захват в каналирование в слабоизогнутом кристалле
Представлены данные эффективности объемного захвата (ОЗ) в каналирование частиц высокой энергии в слабоизогнутом кристалле. В работе на отечественном ускорителе У-70 исследовался ОЗ протонов энергией 50 ГэВ в слабоизогнутом кристалле кремния с радиусом изгиба 5 м (60 критических радиусов). Эксперимент проводился на выведенном пучке протонов в НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ. Падающий пучок направлялся на кристалл с помощью телескопа сцинтилляционных счетчиков, отклоненный пучок регистрировался радиохромной дозиметрической пленкой EBT-3. Измерена доля отклоненного пучка, которая составила (3.6 ± 1)% и (1.1 ± 0.3)% в зависимости от угла поворота частиц и пути в кристалле. Полученные экспериментальные данные сопоставлены с теоретическими расчетами эффективности отклонения пучка в результате ОЗ в зависимости от длины пути в кристалле и демонстрируют удовлетворительное согласие [1, 2]. Метод поворота пучка с помощью ОЗ перспективен для управления вторичными пучками частиц с большой угловой расходимостью.
- Yu.A. Chesnokov et al., Nucl. Instrum. Meth. B 69, 247 (1992)
- V.A. Maisheev, NIM A (2025) to be published
Speaker: Екатерина Парменова (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт») -
411
Оценка величины разрешающего времени газоразрядных детекторов
Газоразрядные детекторы (счётчики Гейгера-Мюллера, пропорциональные счётчики) широко применяются в ядерной физике для регистрации ионизирующего излучения. Важной характеристикой их работы является разрешающее время – минимальный интервал между двумя регистрируемыми событиями, при котором детектор способен их различить. Также данный параметр иногда называют мертвым временем системы регистрации. Оценка этой величины критична для корректного измерения активности источников и предотвращения потерь счёта.
В работе рассмотрены три модели мертвого времени:
Продлевающееся мертвое время (парализуемое), при котором мертвое время продлевается за счет новых событий – частиц, попадающих в чувствительный объем детектора [1];
Непродлевающееся мертвое время (непарализуемое), при котором новые частицы, попадающие в чувствительный объем детектора, не приводят к его продлению [1];
Гибридная модель, учитывающая вклад как от продлевающегося, так и от непродлевающегося мертвого времени [2].
Для рассмотренных моделей написан программный код, позволяющий оценить величину мертвого времени в конкретном эксперименте. Применимость кода проверена в ряде экспериментов по измерению с помощью детекторов СБМ-19 кривых распада ядер изотопов индиевой фольги (радионуклиды 116In, 116m1In, 116m2In, 114In), активированной в поле нейтронов импульсных генераторов ИНГ-103 и ИНГ-105 с камерами плазменного фокуса, наполненными дейтерий-дейтериевой и дейтерий-тритиевой смесью газов соответственно.
Сравнение экспериментальных данных скорости счета СБМ-19 с учетом полученных поправок на мертвое время согласуется с модельными данными скорости счета, полученными расчетным путем с использованием инструментов GEANT4.Список литературы
1. G. F. Knoll // Radiation detection and measurement // John & Wiley Sons Inc. – 2010.
2. Lee S. H., Gardner R. P., Jae M. Determination of dead times in the recently introduced hybrid GM counter dead time model //Journal of Nuclear Science and Technology. – 2004. – Т. 41. – №. sup4. – С. 156-159.Speaker: Матвей Мишин (НИЯУ МИФИ) -
412
Разработка ионизационной камеры для мониторирования интенсивного пучка тяжелых ионов высоких энергий на комплексе NICA
Разработаны и созданы ионизационная камера ИК-3 для прикладных исследований на комплексе NICA. Камера ИК-3 имеет активную область 100х100 мм, электроды изготовлены из фольгированных стеклотекстолита толщиной 140 мкм и полиимида толщиной 110 мкм. Камеры предназначены для станции длительного облучения, которая расположена в зоне эксперимента BM@N. Камера прошла тестовые испытания на гамма источнике 60Co и протонном пучке с энергией 150 МэВ на ускорителе «Прометеус» в МРНЦ им. Цыба (Обнинск). Разработка подобных ионизационных камер актуальна в свете импортозамещения для работ в области прикладных исследований на комплексе NICA.
Speaker: Геннадий Чулухадзе (Северо-Осетинский государственный университет, Владикавказ, Россия) -
413
Разработка метода идентификации типа частиц отдачи в ионизационной камере
НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ обладает большим опытом в проведении экспериментов, использующих метод активной мишени [1-2]. В основе этого метода лежит использование время-проекционных камер (ВПК), которые одновременно выполняют функции газовой мишени и детектора частиц отдачи. Если ВПК наполнена каким-либо газом отличным от водорода, то при её облучении пучком заряженных частиц может наблюдаться выбивание нуклонов и кластеров из атомных ядер газа. Например, во время тестовых измерений, проведенных с использованием прототипа ВПК в 2018 г. на ускорителе электронов MAMI (г. Майнц, Германия) при энергии электронов пучка 720 МэВ, наблюдалось выбивание протонов и дейтронов из ядер гелия и азота. Предлагается провести цикл исследований и определить дифференциальные сечения выбивания протонов и кластеров (дейтронов и ядер гелия) на различных газовых мишенях (He, CH4, N2, Ar и др.) при различных энергиях электронного пучка.
В данный момент в качестве возможных вариантов проведения тестовых сеансов и основного эксперимента рассматриваются использование синхроциклотрона СЦ-1000 (г. Гатчина) и линейного ускорителя электронов ЛИНАК-200 (г. Дубна). В настоящее время ускоритель ЛИНАК-200 находится в стадии введения в эксплуатацию.
Для проведения экспериментов по выбиванию из атомных ядер протонов и кластеров в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ разрабатывается ВПК с диаметром зоны активной мишени 100 мм, шириной дрейфового промежутка 100 мм и рабочим давлением до 25 атм. Для подготовки предложения по проведению эксперимента проводится моделирование установки [3] с помощью пакета программ GEANT4 [4].
Для проведения измерений разработан метод идентификации типа частицы отдачи. Разработанный алгоритм базируется на корреляции величины пробега частицы отдачи и энергии, которую она оставила в детекторе. При этом учитывается угол вылета частицы, который может быть определен экспериментально по разности времен возникновения сигналов на анодах ВПК. Исследованы возможности разделения сигналов от протонов, дейтронов и альфа-частиц в зависимости от их энергий, углов вылета, а также в зависимости от профиля пучка электронов.- J. P. Burq et al., Soft πp and pp Elastic Scattering in the Energy Range 30-GeV to 345-GeV // Nucl. Phys. B 1983, Т. 217, С. 285-335.
- Г.Д. Алхазов и др., Исследование структуры экзотических ядер на установке с активной мишенью ИКАР методом упругого рассеяния протонов в инверсной кинематике // Физика элементарных частиц и атомного ядра, 2022, Т. 53, № 3, С. 661-691.
- А. Аламури, А.А. Дзюба, Изучение возможности регистрации выбивания электронами протонов и кластеров из ядер // Сборник тезисов XI Всероссийского молодежного научного форума с международным участием «Open Science 2024» (в печати).
- S. Agostinelli et al, Geant4 – A Simulation Toolkit // Nucl. Inst. Meth. A, 2003, Т. 506, С. 250-303.
Speaker: Абдулмажид Аламури (Санкт-Петербургский государственный университет) -
414
Рождение электрон-позитронных пар в поле рентгеновского импульса
Процесс рождения электрон-позитронной пары в присутствии внешнего электромагнитного поля представляет собой пример нелинейного квантово-полевого взаимодействия [1, 2]. В работе исследуется случай, когда роль внешнего поля играет короткий рентгеновский импульс с пространственно-временным профилем, приближающим излучение от пучка ультрарелятивистских частиц в синхротронных источниках [3, 4]. Также в работе рассматривается связь спектральных характеристик рождающихся позитронов с параметрами импульса — амплитудой и характерной частотой.
Для описания процесса используются точные решения уравнения Дирака в плоской волне (функции Волкова), что позволяет корректно учесть взаимодействие частиц с полем рентгеновского импульса. Амплитуда перехода вычисляется в первом порядке теории возмущений, и на её основе строится выражение для дифференциальной вероятности рождения пары и спектра позитронов [5]. Получено, что спектры имеют однопиковую форму, положение и ширина которой зависят от частоты, а высота — от амплитуды импульса.
Хотя полноценная реконструкция параметров рентгеновского импульса требует дальнейшего анализа, уже сами по себе зависимости спектра от внешнего электромагнитного поля позволяют рассматривать процесс рождения электрон-позитронной пары как, возможно, потенциальный инструмент для косвенной оценки характеристик поля. Такой подход может быть полезен при интерпретации результатов, полученных на современных источниках синхротронного излучения, таких как СКИФ.Литература:
[1] В.И. Ритус, А.И. Никишов, Труды ФИАН, 111, 5 (1979).
[2] С. П. Рощупкин, А. А. Лебедь, Эффекты квантовой электродинамики в сильных импульсных лазерных полях, Наукова Думка (2013)
[3] К. В. Золотарев, А. И. Анчаров, З. С. Винокуров и др. Известия РАН Серия физическая т.87, с.614 (2023)
[4] В.Н. Байер, В.М. Катков, В.С. Фадин, Излучение релятивистских электронов. Атомиздат, 1973.
[5] А.В. Халяпин, С.В. Бобашев, Д.П. Барсуков, Письма в ЖТФ, 50 (23), 15–18 (2024).Speaker: Антон Халяпин (ИТМО) -
415
Сечение реакции и сечение взаимодействия для рассеяния ядер в полной теории Глаубера
Важная информация о структуре ядер, в частности о ядерных гало, поступает из данных по рассеянию исследуемого ядра A на ядре-мишени B. Величиной, непосредственно измеряемой в таком столкновении, является сечение взаимодействия $\sigma_{AB}^{I}$. Оно определяется как сечение процесса, в котором налетающее ядро A не возбуждается и не разваливается в то время как конечное состояние ядра-мишени B$^\prime$ никак не фиксируется, $\sigma_{AB}^{I}=\sigma_{AB}^{tot} -\sigma_{AB\to AB^\prime}$, где $\sigma_{AB}^{tot}$ -- полное сечение рассеяния.
Теоретические расчеты обычно выполняются для сечения реакции, или полного неупругого, определяемого как разность полного и полного упругого сечений $\sigma_{AB}^{R} = \sigma_{AB}^{tot} -\sigma_{AB}^{el}$.
Разница между сечением взаимодействия и сечением реакции обычно предполагалась пренебрежимо малой.Мы провели расчеты $\sigma_{AB}^{I}$ и $\sigma_{AB}^{R}$ сечений в полной теории Глаубера с учетом всех перерассеяний, основываясь на методе производящей функции [1].
Результаты, полученные для рассеяния ядер $^4$He, $^{9}$Li, $^{12}$C и ядра с гало $^{11}$Li на мишени $^{12}$C, приведены в таблице.
Среднеквадратичные радиусы определялись из сравнения вычисленных сечений
взаимодействия с экспериментальными сечениями. По найденным радиусам
вычислялись сечения реакции.Экспериментальное Среднеквадратичный Сечение
сечение, мб радиус, фм реакции, мб$^{4}$He 503 $\pm$ 5 1.64 523
$^{12}$C 853 $\pm$ 6 2.46 864
$^{9}$Li 796 $\pm$ 6 2.55 804
$^{11}$Li 1047 $\pm$40 3.28 1057
Видно, что сечение реакции всегда больше сечения взаимодействия на несколько процентов.
- Y.M. Shabelski and A.G. Shuvaev, Phys. Rev. C \textbf{104}, no.6, 064607 (2021)
Speaker: Андрей Шуваев (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Гатчина 188300 Россия) -
416
Спектр масс и распады мезонов в рамках билокальной релятивистской потенциальной модели
Получен спектр масс псевдоскалярных и векторных мезонов в рамках релятивистской потенциальной модели. Потенциал межкваркового взаимодействия выбран в виде суммы осцилляторного и кулоноподобного потенциалов. Рассчитаны константы распадов лептонных распадов, результаты которых находятся в количественном согласии с имеющимися экспериментальными данными. Используемая модель использована для расчета спектра электрона в приближении двумерного пространства. Получены значения энергии и вид волновых функций возможных связанных состояний электронов, результаты которых могут быть полезны для выявления природы проявления квантового эффекта Холла.
Speaker: Тулкун Насиров (Университет геологических наук, Ташкент, Узбекистан) -
417
Спектрометр на основе Si-детекторов для измерения бета-спектров в присутствии интенсивного гамма-фона.
В настоящее время в ядерной физике и физики атомных реакторов существует задача измерения полного β-спектра облучённого ядерного топлива (ОЯТ). Знание данного электронного спектра позволит восстановить полный спектр реакторных антинейтрино, при помощи которого можно будет производить оценку состояния активной зоны реактора и радионуклидного состава. Препятствием для получения β-спектра с необходимым разрешением является интенсивный γ-фон от ОЯТ. На данный момент стандартные спектрометры с полупроводниковыми детекторами не способны качественно выделить β-спектр ОЯТ на фоне интенсивного сопутствующего γ-фона.
Для точного измерения β-спектров и подавления γ-сигнала предлагается использовать измерительную установку, состоящую из тонкого пролётного планарного детектора и Si(Li)-детектора полного поглощения, работающих в режиме совпадения. Вероятность взаимодействия γ-квантов с рабочим объёмом пролётного планарного детектора мала, в отличие от электронов, которые теряют часть своей энергии внутри пролетного детектора. Si(Li)-детектор будет фиксировать как γ-кванты, так и электроны, которые полностью теряют свою энергию в объёме детектора. Таким образом, сигналы с двух детекторов вызванные электронами будут скоррелированы по времени, в то время как сигналы вызванные гамма-квантами — нет, и, следовательно, могут быть отфильтрованы.
Задачами данной работы было исследование разрешающей способность подобной схемы с двумя детекторами, оценка ухудшения разрешения вызванного прохождением электронами пролетного детектора, поиска и апробации способов повышения энергетического разрешения, оценка степени подавления γ-фона. Измерения проводились с использованием модельного источника 207Bi, который претерпевает как β+-распад, так и e-захват. В результате переходов ядра из одного возбуждённого состояния в другое, наблюдается поток γ-квантов с различными энергиями, конверсионные электроны, γ-кванты от процесса аннигиляции электрон-позитронной пары, а также рентгеновское излучение.
В результате работы экспериментального β-спектрометра с двумя полупроводниковыми детекторами были получены следующие результаты: разрешение Si(Li)-детектора при работе в схеме без пролетного детектора составило 0.77 кэВ по линии конверсионных электронов с энергией 1064 кэВ, при включении в схему установки пролётного планарного детектора разрешающая способность спектрометра ухудшилась в ~ 17 раз до 13 кэВ. Подавление γ-фона при этом составило ~ 2000 раз. Для получения максимально возможного разрешения был разработан алгоритм суммирования амплитуд сигналов с двух детекторов. В результате, разработанная модель обработки данных позволила получать спектры конверсионных электронов 207Bi с разрешением 2 ± 0.04 кэВ.
Таким образом, проведенные работы подтвердили возможность применения E-E спектрометра для эффективного подавления гамма-фона и выделения β-спектра с допустимыми потерями в разрешении.Speaker: Матвей Панкратов (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) -
418
ФЭУ с защитными экранами от магнитных полей в ядерно-физических экспериментах
В работе представлены результаты серии экспериментов, направленных на изготовление прототипа сцинтилляционной детекторной системы с использованием фотоумножителей, защищенных от магнитного поля специальными экранами. Рассмотрена система пассивной компенсации постоянного магнитного поля при использовании вакуумных ФЭУ в качестве фотоприемников. Демонстрируются преимущества экранов, изготовленных по новой технологии электролитического осаждения. Проанализирована возможность использования многослойных пленочных экранов как компоненты ядерно-физической аппаратуры фундаментального и прикладного назначения.
Speaker: Mr Сергей Муравьев-Смирнов (НИЯУ МИФИ) -
419
Эпитаксиальные пленки 4H-SiC как детекторы альфа-частиц и осколков деления.
Карбид кремния (SiC) — широкозонный полупроводник с высоким значением величины пороговой энергии дефектообразования, что делает его одним из самых перспективных материалов для изготовления радиационно-стойких полупроводниковых детекторов [1]. Ключевой особенностью данного полупроводникового материала является структура типичных пластин SiC: сравнительно тонкий (1-50 мкм) рабочий эпитаксиальный слой с низкой степенью легирования (порядка 1015 см-3 и ниже), выращенный на высоколегированной (~1018 см-3) подложке SiC толщиной 300-350 мкм. Таким образом, SiC детекторы способны регистрировать лишь относительно короткопробежные частицы, которые полностью теряют энергию в эпитаксиальном слое. В данной работе исследовалась возможность применения SiC детектора для регистрации альфа-частиц, а также осколков деления изотопа 252Cf.
Исследованные детекторы со структурой барьера Шоттки изготавливались подложке 4H-SiC n-типа проводимости (удельное сопротивление 0.02 Ом · см) с выращенным на поверхности эпитаксиальным n-слоем. Концентрация доноров (азот) в n-слое толщиной 34 мкм составляла 9 · 10 14 см−3. Никелевый омический контакт формировался на шлифованной обратной стороне подложки путем ионного распыления Ni-мишени и вжиганием в вакууме при температуре 950°C. Контакты Шоттки с площадями 2 мм2 формировались ионным распылением Ni-мишени (толщина слоя Ni ∼150 нм). Расчеты глубины проникновения альфа-частиц и осколков деления в карбиде кремния выполнялись в программе TRIM [2] и они показали, что SiC детекторы с толщиной эпитаксиального слоя 34 мкм подходят для регистрации как альфа-частиц, так и осколков деления изотопа 252Cf.
Спектрометрические свойства изготовленных детекторов исследовались при облучении альфа-частицами спектрометрического альфа-источника (233U+239Pu+238Pu) и продуктами распада изотопа 252Cf. Согласно расчетам, полное обеднение эпитаксиального слоя наступит при приложении обратного смещения около 800В. Для уменьшения поверхностных токов утечек и снижении вероятности пробоя детектора при приложении большого обратного смещения, лицевая сторона детектора запылялась слоем тетраэдрического аморфного углерода толщиной 10 нм [3]. Проводились исследования влияния данного слоя на вольт-амперные и спектрометрические характеристики детектора. Электрически-активные дефекты в эпитаксиальном слое и на интерфейсе исследовались с помощью методов термо-стимулированного тока (TSC) и нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS).
Подробное обсуждение полученных экспериментальных результатов будет представлено на Конференции.[1] Marzio De Napoli, Front. Phys., 10, 898833 (2022)
[2] Ziegler J.F., Biersack J.P., Ziegler M.D., SRIM – Stopping and Range of Ions in Matter. URL: www.srim.org
[3] Коньков О.И., Теруков Е.И., Трапезникова И.Н., Физика и техника полупроводников, Т.30, выпуск 12, стр. 2183-2187 (1996)Speaker: Dr Максим Трушин (ПИЯФ)
-
390
-
-
-
0. Plenary Актовый зал (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
Актовый зал
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Plenary
Convener: Владимир Иосифович Жеребчевский (СПбГУ)-
420
Ускорительный источник нейтронов VITA для бор-нейтронозахватной терапии и других приложений
Ускорительный источник нейтронов VITA – физическая установка, включающая в себя электростатический тандемный ускоритель заряженных частиц оригинальной конструкции, названный со временем ускорителем-тандемом с вакуумной изоляцией (Vacuum Insulated Tandem Accelerator – VITA), для получения стационарного пучка протонов или дейтронов с энергией до 2,3 МэВ и током до 10 мА, оригинальную тонкую литиевую мишень для генерации нейтронов и ряд систем формирования пучка нейтронов с замедлителем из фторида магния, оргстекла, полиэтилена или тяжелой воды.
Установку на площадке ИЯФ СО РАН используют для развития методики бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), включая изучение влияния нейтронного излучения на клеточные культуры и лабораторных животных, лечение домашних животных со спонтанными опухолями, разработку средств и методов дозиметрии, тестирование новых препаратов адресной доставки бора, а также используют для развития литий-нейтронозахватной терапии, радиационного тестирования перспективных материалов и оборудования, для измерения сечений ядерных реакций и для ряда других приложений.
Ускорительный источник нейтронов VITA-IIa с 2022 г. используют в клинике г. Сямынь (Китай) для лечения больных методом БНЗТ. Ускорительный источник нейтронов VITA-IIb вводят в эксплуатацию в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России для проведения клинические испытания методики БНЗТ в России с конца этого года.
В докладе дается описание конструкции ускорительного источника нейтронов VITA, его характеристик, полученных результатов и декларируются планы, включая разработку нейтрон-электронного коллайдера.Speaker: Prof. Sergey Yuryevich Taskaev (Budker Institute of Nuclear Physics) -
421
Ab initio исследования изобар-аналоговых состояний легких ядер
Представлены методы ab initio вычисления изоспиновых характеристик легких ядер: среднего значения оператора изоспина T2 и веса каждой из возможных компонент волновой функции ядра с фиксированным значением изоспина T. Рассматриваются кулоновские эффекты в изобар-аналоговых мультиплетах – разности кулоновских энергий ядер, составляющих такие мультиплеты (кулоновские разности): их различия для уровней разного спина и четности одного и того же ядра, зависимость от параметров, характеризующих используемый базис и др.
На чрезвычайно большом максимальном базисе ~109•109 изучены представляющие интерес для экспериментального изучения ядра, составляющие четырех-, пяти-, и восьминуклонные мультиплеты: 4n – 4H – 4He, 5H – 5He – 5Li и 8He – 8Be – 8Li. Практически для всех табличных уровней этих ядер найдены соответствующие им теоретически рассчитанные. Предсказана группа не обнаруженных до сих пор состояний.
На базе проведенных расчетов представленных выше изоспиновых и кулоновских характеристик и их анализа с использованием свойств изотопической инвариантности существенно расширен список надежно установленных уровней перечисленных ядер.Speaker: Юрий Михайлович Чувильский (МГУ имени М.В. Ломоносова (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына)) -
422
Highlights of unstable states in relativistic dissociation of light nuclei
The 8Be and 9B nuclei and a number of excitations of light isotopes near the binding thresholds constitute a whole class of unusually long-lived states at the lower limit of nuclear density and temperature. In the concepts of molecular-like or α-condensate structures, they are represented as associations of the lightest nuclei and nucleons separated in space. Identification of the known unstable states allows studying their dynamics and searching for analogs decaying into them. The report summarizes the key results on unstable states in relativistic dissociation of the isotopes 9,7Ве, 10B, 12,11,10C, 14N and 16O in a nuclear emulsion. Determination of invariant masses of α-particle ensembles from fragment emission angles in the approximation of conservation of momentum per nucleon of the parent nucleus allows identification of decays of 8Be(0+), 8Be(2+), 9Be(1.7), 9B, 6Be, 12C(0+2), 12C(3-) and 7Be(7.2) [recently in 1,2 and references therein]. Their identification indicates that the duration and cross-section of the fragment interaction are sufficient for low-energy reactions of nuclear astrophysics. Progress in intelligent microscopy and image recognition allows, based on the record spatial resolution and sensitivity of the nuclear emulsion method, to impart new quality and scope to these studies.
1.D.A. Artemenkov et al., IJMP E 24410155 (2024) https://doi.org/10.1142/S0218301324410155; arXiv: 2409.14814.
2. A.A. Zaitsev, P.I. Zarubin “On formation of the 12C(0+2) and 12C(3-) states in relativistic dissociation of light nuclei” to be published in Phys. At. Nucl.; arXiv:2411.18394.Speaker: Pavel Igorevich Zarubin (JINR) -
423
Физика очарованных кварков (LHCb)
Эксперимент LHCb, проводящийся на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН), направлен на изучение процессов рождения и свойств адронов, содержащих в своем составе тяжелые кварки (c и b). Уникальные возможности LHCb (высокое сечение рождения очарованных и прелестных адронов, точное выделение вершин их рождения и распада, надежная идентификация типа зарегистрированной частицы и др.) позволяют:
- исследовать адронный спектр,
- наблюдать новые (в том числе подавленные) моды распадов адронов,
- проводить поиск и исследование СР-нарушающих процессов,
- осуществлять поиск Новой физике, путем исследования редких распадов c- и b-адронов.В докладе будут представлены последние результаты LHCb в области физики очарованного кварка.
Speaker: Алексей Александрович Дзюба (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) -
424
Characteristics of fragments at binary nuclear fission
One of the central challenges in modern theoretical nuclear physics is the detailed description of fission fragment (FF) characteristics. Addressing this problem requires advanced quantum mechanical methods capable of accurately reproducing fission dynamics while ensuring close agreement between theoretical predictions and experimental observations. In this work, an analytical review of recent theoretical developments in this field [1–3] is presented, with a focus on extending and refining the generalized “cold’’ nucleus model, which provides a unified framework for describing various FF properties.
The proposed model is based on the hypothesis [4], which posits that the nuclear excitation energy remains minimal throughout the fission process. Nearly all excitation energy is redistributed into nonequilibrium deformation degrees of freedom of the fission fragments [1]. Only after scission does thermalization of the fragments occur, accompanied by neutron and gamma-quanta emission. This approach allows the application of methods introduced in [5], simplifying the description by considering only zero transverse and longitudinal oscillation modes.
In this study, the above approaches are adapted to describe asymmetric fission. Within the “cold’’ fission framework, the projections of FF spins onto the symmetry axis of the fissioning nucleus are evaluated. The obtained results demonstrate that these spin projections are found to vanish, supporting a two-dimensional description of FF spins. This leads to analytical expressions for the distributions of orbital angular momenta, spins, and angular correlations of FFs [2, 3], significantly expanding the applicability of existing theoretical models.
A comparison with other theoretical approaches and experimental data [6–8] reveals strong agreement, indicating the universality of the proposed model. Additionally, the spin-spin correlations of FFs are investigated. Using the liquid-drop model, analytical expressions for spin angular correlations are derived, which align with phenomenological models like FREYA [6] and available experimental data [8].
This study represents a significant advancement in nuclear fission theory, integrating existing approaches and extending their applicability to new domains. The obtained results provide a basis for further model development, including the description of complex processes such as multi-stage fission, where current theoretical methods remain insufficient.
References
1. D. E. Lyubashevsky et al., Chinese Physics C 49, 034104 (2025).
2. D. E. Lyubashevsky et al., arXiv:2412.04410 (2024).
3. D. E. Lyubashevsky et al., arXiv:2412.04411 (2024).
4. A. Bohr, B. Mottelson, Nuclear Structure (1969).
5. J. R. Nix, W. J. Swiatecki, Nucl. Phys. 71, 1 (1965).
6. J. Randrup, R. Vogt, Phys. Rev. Lett. 127, 062502 (2021).
7. Stetcu et al., Phys. Rev. Lett. 127, 222502 (2021).
8. Wilson et al., Nature 590, 566 (2021).Speaker: Dmitrii Evgenievich Lyubashevsky (Voronezh State University) -
425
Energy density functional for nuclear physics
A review of the various energy density functional approaches used in nuclear physics is presented.
Speaker: Rostislav Jolos (JINR)
-
420
-
12:00
Кофе-брейк Актовый зал (Санкт-Петербургский государственный университет)
Актовый зал
Санкт-Петербургский государственный университет
-
2. Experimental and theoretical studies of nuclear reactions 3058 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
3058
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Николай Александрович Мальцев (Санкт-Петербургский государственный университет)-
426
On studying decays of E1 giant resonance in heavy nuclei with neutron emission under γ-quanta from Compton backscattering
There were considered in [1–3] some issues of experimental study of photonuclear reactions under γ-quanta with energies Eγ in the region of excitation of E1 giant resonance in atomic nuclei with spectrometry of emitted fast neutrons for the γ-source from collimated Compton backscattering at the National Center for Physics and Mathematics (NCPhM, Sarov, Russia [4]). In this report for heavy nuclei, including actinides, the following were analyzed:
• main possible partial photonuclear reactions in pointed out nuclei with neutron emission occurring at Eγ < 20 MeV [5, 6];
• parameters of the collimated γ-sources with Eγ < 20 MeV from collimated Compton backward scattering High Intensity γ-ray Source (HIγS, Durham, USA [7]) and NCPhM in its several variants [2, 3]);
• characteristics of the multi-channel neutron spectrometer proposed for NCPhM [2, 3];
• opportunities of conducting photoneutron experiments with measurements of multiplicity, as well as energy and time distributions of neutrons produced in heavy nuclei, including actinides, at NCPhM γ-sources with proposed in [2, 3] the scintillation spectrometer of fast neutrons which uses both amplitude and time-of-flight data.1. S.S.Belyshev et al. Moscow Univ.Phys.Bull. 2023. V.78. No.3, P.284. 2. A.M.Lapik et al. Bull.Russ.Acad.Sci.Phys. 2024, V.88. No.8. P.1191. 3. S.S.Belyshev et al. Moscow Univ. Phys. Bull. 2025. V.80. No.3. 4. L.V.Grigorenko et al. FIZMAT, 2023, V.3–4. P.1 (in russian). 5. S.S.Dietrich, B.L.Berman. At.Data Nucl.Data Tables 1988. V.38, P.199. 6. V.V.Varlamov et al. Report INDC(NDS)-394 (IAEA, Vienna, Austria, 1999). 7. H.R.Weller et al. Progr.Part.Nucl.Phys. 2009, V.62. P.257.Speaker: Leonid Dzhilavyan (Institute for Nuclear Research of RAS) -
427
On optimization of (γ, n 0; 1; 2)- experiments with the proposed neutron spectrometer at national center for physics and mathematics
For γ-quantum energies in the region of E1 giant resonance in atomic nuclei, there were analyzed:
• requirements for (γ, n 0;1;2)-experiments with fast neutron spectrometry on the base of results of the works [1, 2];
• parameters of γ-sources from Compton backscattering High Intensity γ-ray Source (HIγS, Durham, USA [3]) and National Center for Physics and Mathematics (NCPhM, Sarov, Russia [4–6]);
• characteristics of the neutron spectrometer proposed for NCPhM [5, 6];
• principles of one-dimensional time-coordinate compensation for neutron spectrometer scintillators [7, 8].
Initial experiments have been carried out using the one-dimensional time-coordinate compensation method [7, 8] to investigate the possibilities of improving the efficiency and resolution of the fast neutron scintillation spectrometer proposed in [5, 6], which provides both amplitude and time-of-flight data.1. N.K.Sherman et al. Phys.Rev.Lett. 1975, V.35. P.1215. 2. S.S.Verbitsky et al. Phys.At.Nuclei, 2009, V.72. P.387. 3. H.R.Weller et al. Prog.Part.Nucl.Phys. 2009, V.62. P.257. 4. L.V.Grigorenko et al. FIZMAT, 2023, V.3–4. P.1 (in russian). 5. A.M.Lapik et al. Bull.Russ.Acad Sci.Phys. 2024, V.88. P.1191. 6. A.M.Lapik et al. Mosc.Univ.Bull.Phys.2025, V.80, №3. 7. K.G.Sharpak et al. Nucl.Instr.& Meth.1962,V.15,P.323. 8. V.A.Grigoriev et al.Elektr.met.yad.-fiz.eksp. M.Energoatomizdat.1988(in rus.)Speaker: Leonid Dzhilavyan (Institute for Nuclear Research of RAS) -
428
Alternative approach for estimating the neck radius of a fissioning nucleus
The study presents a new method for determining the critical neck in nuclear fission, based on the analysis of fragment spin characteristics. The key difference from other approaches, such as [1,2], lies in using experimental data on fragment spin distributions [3] instead of the conventional analysis of mass distributions. This choice is motivated by the greater sensitivity of spin characteristics to fission dynamics, particularly during the final stages of the process.
The primary focus of the work is the analysis of fissioning nucleus dynamics near the scission point. The dependence of transverse oscillation frequencies on fragment quadrupole deformations was investigated, along with the evolution of the system's moments of inertia. Particular attention was given to analyzing the influence of bending and wriggling vibrational modes of pre-fragments. It is shown that accounting such dynamic effects enhances the consistency between theoretical predictions and experimental results.
The obtained estimates for the neck radius fall within the range of 1 – 2.5 fm and show good agreement with existing theoretical models [1,2]. In particular, for actinides, the critical radius is approximately 2 fm, consistent with classical concepts [4] of the balance between Coulomb and nuclear forces at the rupture point. An exception is the case of $^{252}\text{Cf}$, where simplified models [1] yield values close to nucleon sizes, around 1.2 fm.
The developed approach opens new possibilities for studying nuclear fission dynamics. Specifically, analyzing spin distributions provides additional information about processes occurring in the neck region of the fissioning nucleus.
References
- K.T.R. Davies et al. Phys. Rev. C 16, 1890 (1977)
- B. Nerlo-Pomorska et al. Acta Phys. Pol. B Suppl. 8, 659 (2015)
- J. Wilson et al. Nature 590, 566 (2021)
- N. Bohr, J.A. Wheeler Phys. Rev. 56, 426 (1939)
Speaker: Yana Otvodenko (Voronezh State University) -
429
Intermediate structure in (p,γ) reactions and in β-decays
The characteristics of various nuclear processes are rather simple to calculate in statistical model [1-4]. In particular, the transition-width distribution is described by the Porter–Thomas equation, there are no correlations between different partial widths, the strength function of $\beta$-transitions $S_{\beta}(\textit{E})$ depends smoothly on energy, and the ratios of the amplitudes for decay via various spin channels follow the Cauchy distribution.
An intermediate structure of resonances in nuclear reactions and in the resonance structure of the $\beta$-decay strength functions $S_{\beta}(\textit{E})$ connected with violation of statistical model in a localized energy region [1,2]. Deviations from the statistical theory have been observed in (p,p’$\gamma$) and (p, $\gamma$) reactions, $\beta^{-}$ and $\beta^{+}/EC$-decays [1-4]. Non-statistical effects are closely related to the symmetry of the nuclear interaction and determined by the non-statistical component of the resonance wave function [1,2].
In this report non-statistical effects manifested in reactions involving low-energy protons and in $\beta$- decays are analyzed. Non-statistical effects are closely related to the symmetry of the nuclear interaction. In (p, $\gamma$) reactions for nonanalog resonances in $N>Z$ nuclei non-statistical effects are connected with neutron excess and domination of the simple configuration such as proton-particle neutron-hole in the wave function of nonanalog resonances [1-3]. The association of non-statistical effects in (p, $\gamma$) reactions and in the $\beta$-decays with spin–isospin $SU(4)$ symmetry are discussed. The non-statistical effects taking into account non-statistical correlations in $E2$ and $M1$ $\gamma$-transitions for the $\gamma$-decay of the non-analog resonances in (p, $\gamma$) reactions are analysed.$\textbf{References}$
[1] I.N. Izosimov, Physics of Particles and Nuclei, $\textbf{30}$, 131 (1999).
[2] I.N. Izosimov, JINR Preprint E6-2024-14.Dubna, 2024; http:www1.jinr.ru/Preprints/2024/14(E6-2024-14).pdf.
[3] I.N. Izosimov, et al, Phys. Part. Nucl., $\textbf{42}$, 1804 (2011). DOI:10.1134/S1063779611060049
[4] O.E. Kraft, Yu.V.Naumov, V.M. Sigalov, I.V. Sizov, Sov. J. Part. Nucl., $\textbf{17}$, 573 (1986).Speaker: Igor Izosimov (Joint Institute for Nuclear Research) -
430
Effective matter radii of $^{10,11,12}$Be nuclei determined from their total reaction cross sections on $^{28}$Si target
In this work, we studied the total reaction cross sections for the $^{10,11,12}$Be nuclei on the $^{28}$Si target by the 4π method based on the registration of the prompt γ quanta and neutrons accompanying the interaction using the multidetector spectrometer. It was found that the total reaction cross sections for the $^{11}$Be nuclei are significantly larger than those for $^{10}$Be. Along with the low value of the neutron separation energy (0.5 MeV) for $^{11}$Be, it is an indication of its halo structure. The total reaction cross sections for the $^{12}$Be nuclei are larger than those for $^{10}$Be. Along with the pairing of two outer neutrons and the larger value of the neutron separation energy (3.2 MeV) for $^{12}$Be, it is an indication of its more compact outer shell (compared to a halo) which can be called a skin.
Using the measured values of the total reaction cross sections and the phenomenological optical model, the effective matter radii of the $^{10,11,12}$Be nuclei were determined. A new theoretical approach based on the combination of the optical model with the modified optical potential and classical trajectories was applied to the calculations of the effective matter radii of the colliding nuclei (details are given in [1]).
References
1. Yu. G. Sobolev, V. V. Samarin, Yu. E. Penionzhkevich, S. S. Stukalov, and M. A. Naumenko, Phys. Rev. C 110, 014609 (2024).Speaker: Viacheslav Samarin (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia) -
431
Time-dependent description of nucleons transfer in 40Ar+Ag reaction
A numerical solution of the time-dependent Schrodinger equation [1, 2] is applied in studying the dynamics of the the nucleons and the alpha-clusters transfer in the reaction ${}^{40}$Ar+${}^{nat}$Ag at energy 285 МeV. The evolution of wave functions for outer nucleons is used to describe multi-neutron and multi-proton transfer channels. In addition the evolution of the alpha-cluster wave function in the ${}^{40}$Ar nucleus is used to calculate the cross sections for S and Si products formation. The results of the calculations are in satisfactory agreement with experimental data [3,4] for few nucleons transfer in quasi-elastic scattering. The nucleon collectivization model for di-nuclear system [4] is modified using time-depended approach.
- V. V. Samarin, Phys. At. Nucl. 78, 128 (2015).
- V. V. Samarin, Phys. At. Nucl. 81, 128 (2018).
- A.G. Artukh, G.F. Gridnev, M. Gruszecki, W. Karcz, A.N. Mezentsev, V.L. Mikheev, L.Pomorski, A. Popescu, D.G. Popescu, and V.V. Volkov, Z. Phys. A, 303, 41 (1981).
- V.V. Volkov, Nuclear Physics Research with Heavy Ions (Selected articles). JINR. Dubna, (2023).
Speaker: Viacheslav Samarin (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia) -
432
Role of zero-point transverse oscillations in the Langevin description of nuclear fission
Modern approaches to describe the dynamics of nuclear fission make extensive use of the Langevin formalism [1,2], which effectively accounts for the stochastic nature of the process. However, the problem of correctly determining the parameters of the random force in this approach remains unresolved. This issue becomes particularly relevant for low-energy fission, where quantum effects [3] play a significant role and traditional estimates of the random force amplitude by the zero-point oscillation energy ($\approx $1 MeV) need to be revised.
In this work, the model [4] based on Fourier parameterization of the nuclear surface and macroscopic-microscopic description of the potential energy is further developed. The main improvement is the use of refined values of the zero-point transverse vibrational modes obtained from the analysis [5] of the spin distributions of the fission products from both the induced fission of Th and U and the spontaneous fission of Cf.
The main research results focus on model verification by comparison with experimental data on mass distributions and total kinetic energies of the fission fragments for actinide nuclei. Particular attention is paid to the analysis of the influence of zero point oscillations upon the system dynamics during the stage of descent from the outer fission barrier.
References
- F. A. Ivanyuk, C. Ishizuka, S. Chiba, Phys. Rev. C 109, 034602 (2024)
- Y. Jaganathen, M. Kowal, K. Pomorski, Phys. Lett. B 862, 139302 (2025)
- K. Pomorski, H. Hofmann, J. Physique 42, 381 (1981)
- P. V. Kostryukov, A. Dobrowolski, Phys. Rev. C 108, 024605 (2023)
- D. E. Lyubashevsky et al., arXiv:2412.04410 (2024)
Speaker: Pavel Kostryukov (Voronezh State University of Forestry and Technologies / Voronezh State University)
-
426
-
3. Modern methods and technologies of nuclear physics 2053 (Санкт-Петербургский Государственный Университет )
2053
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Алексей Александрович Дзюба (Санкт-Петербургский государственный университет)-
433
Compton suppressed γ-spectrometer based on CeBr$_3$-NaI(Tl) phoswich detector cluster
The scintillation spectrometer based on a cluster of 9xCeBr$_3$–NaI(Tl) phoswich detectors, additionally equipped by 4xCsI(Tl) detectors of Compton shield was built as a part of MULTI setup [1] to carry out the experiments to study the reactions with radioactive neutron-rich nuclei produced by fragment separator ACCULINNA [2] of the accelerator U400M, FLNR JINR, Dubna.
The results characterizing the efficiency and functionality of the phoswich detector cluster are presented. Parameters such as Compton suppression coefficient (CSC), peak detection efficiency and energy dependence on neutron detection efficiency at neutron energy range $E_n$ ≈ 1.4 ÷ 5.6 MeV were measured for each individual phoswich-detector and for the cluster system. The measurements were carried out using various γ- and n- sources. A comparative analysis of the developed spectrometer with Compton suppressed HPGe clover systems [3] is presented.
The Compton suppression coefficient was measured across energy interval of Eγ<1.4 MeV using two trigger modes and demonstrating significant reduction of the Compton part of the γ-spectra. The maximum suppression coefficient reached ~ 65%, showing the high efficiency of the shielding configuration. The additional equipment of the cluster by CsI(Tl) detectors has improved the CSC parameter.
The measurements with n-γ source have shown that CeBr3 detectors have a relatively high neutron detection efficiency which is weakly dependent on the energy at $E_n$ ≈ 1.4 ÷ 5.6 MeV and can be used for neutron detection by TOF method [4]. CeBr3 detector (5×5×5 сm$^3$)
has neutron detection efficiency ε($E_n$) about ~30% in energy range $E_n$ = 1.4 ÷ 5.6 MeV at detection threshold $E_{th}$~60 eekeV.
This research was funded by the Russian Science Foundation, project No. 24-22-00117.Reference:
1. Siváček I. et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 976, 164255 (2020);
2. Rodin A. M. et al. Nucl. Instrum. Methods B 204, pp. 114 -118 (2003) ;
3. Britton R., et al. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 762, pp. 42 - 53(2014) ;
4. Scherzinger J. et al. //Appl. Rad. Isotop. V. 127, pp. 98-102 (2017). – Т. 127. – С. 98-102.Speaker: Yuri Sobolev (JINR) -
434
Scientific programm of the prospective Compton Radiation Source at National Center for Physics and Mathematics (CRS NCPhM, Sarov)
On behalf of CRS NCPhM scientific collaboration.
The most actively developing large-scale project in the low-energy nuclear physics in Russian Federation is CRS NCPhM [1] – intense x- and gamma-ray source based on inverse Compton scattering effect.
The project is part of the scientific infrastructure of the recently-founded National Center for Physics and Mathematics at Sarov. The research program of the new facility [2] is focused on the problems of nuclear photonics, however, with important opportunities in hadron photonics, physics of radiation of high density, material science, non-destructive testing and biology.
The constraction of facility will start in 2026, and the principal layout of the facility is fixed. The commissioning planned for 2031. However, the development of the scientific programm of the prospective facility is an ongoing process which is expected to benefit from the broadest collaboration of scientists all over the country.
[1] CRS NCPhM site – https://ncphm.ru/science/infrastructure/megascience/iki/
[2] Л.В. Григоренко, Н.В. Антоненко, И.А. Артюков, М.Н. Ачасов, А.Л. Барабанов, С.Л. Белостоцкий, Э.Э. Боос, И.Н. Борзов, В.В. Варламов, А.А. Васильев, А.В. Виноградов, Н.А. Винокуров, А.А. Воробьев, Л.З. Джилавян, Р.В. Джолос, А.А. Дзюба, В.С. Дюбков, Н.В. Завьялов, Д.А. Зверев, С.Г. Кадменский, С.П. Камерджиев, В.В. Каминский, И.А. Карпов, Е.Э. Коломейцев, И.Ю. Костюков,
П.А. Кравцов, П. В. Кравченко, А.А. Кузнецов, А.М. Лапик, А.Е. Левичев, П.В. Логачев, А.И. Львов, Е.М. Маев, О.Е. Маев, М.А. Мартьянов, В.С. Мележик, А.П. Менушенков, О.И. Мешков, С.Ю. Миронов, И.Б. Мухин, Н. Ю. Мучной, В.О. Нестеренко, О.В. Палашов, А.М. Подурец, С.М. Полозов, А.Л. Полонский, Н.Л. Попов, С.В. Попруженко, А.К. Потемкин, А.П. Потылицын, С. Ф. Разиньков,
В.И. Ращиков, С.Г. Рыкованов, А.Б. Савельев-Трофимов, А.П. Северюхин, А.М. Сергеев, Д.Ю. Сергеева, А.А. Снигирев, И.А. Спирин, М.В. Стародубцев, М.В. Таценко, А.А. Тищенко, Е.В. Ткаля, О.Л. Федин, А.М. Федотов, А.С. Фомичев, Б.Ю. Шарков, П.Г. Шаров, В.И. Шведунов, А.А. Шемухин, О.Н. Шубин,
М.С. Хирк, В.Д. Эфрос,
Проект научной программы ИНОК – комптоновского источника монохроматических гамма-квантов НЦФМ,
ФИЗМАТ 1 (2023) 121–259 [https://disk.yandex.ru/i/oFU0IgdVs5RB5w].Speaker: Leonid Grigorenko (FLNR, JINR, Dubna, Russia) -
435
Methods for studying reaction cross-sections with neutron-rich nuclei
The method [1] for measuring the total σR and partial cross-sections of nuclear reactions and the results of applying the method in studying the energy dependence $σ_R(E)$ in reactions with neutron-rich isotopes He, Li, Be and B [2-4] are presented. Secondary beams of the studied nuclei were obtained at the fragment separator ACCULINNA of the accelerator U400M, FLNR JINR.
A comparative analysis of the developed methodology with other methods is provided.
The created method is based on the registration in a solid angle close to the total Ω = 4π of cascades of γ-quanta accompanying nuclear reactions and includes: taking into account the dependence $ε(Mγ)$ - the efficiency of registration by the spectrometer of cascades of γ-quanta of multiplicity Mγ and its distribution from k the number of detectors that have worked $wM$γ($k$). The characteristics were measured using the γ-β-γ coincidence method using a $^{60}Co$ source.
The presented technique allows obtaining the values of the dependences of the total reaction cross-sections on the energy $σ_R(E)$ and on the number of triggered detectors $σ_R(k)$.
For the first time, $σ_R(E)$ and $σ_R(k)$ were measured for the reactions $^{6,8}$He, $^{8,9,11}$Li, $^{10,11,12}$Be, $^{14}$B+$^{28}$Si,$^{59}$Co,$^{181}$Ta in the little-studied beam energy range $E_{LAB}$ = 5÷50 MeV/nucleon. Analysis of the results obtained using the new method for measuring $σ_R(E)$ made it possible to determine the contributions of the partial cross sections of reaction channels accompanied by cascades of low-multiplicity $M$γ γ-quanta.
This research was funded by the Russian Science Foundation, project № 24-22-00117.
References
- S. S. Stukalov et al., PEPAN Lett., Vol. 21, No. 3, pp. 508–517, (2024);
- Yu. E. Penionzhkevich et al., Phys. Rev. C 99, 014609 (2019);
- Yu. G. Sobolev et al., Bull. Rus. Acad. Sci. Phys., Vol. 84, No. 8, pp. 948–956, (2020);
- Yu. G. Sobolev et al., Phys. Rev. C 110, 014609 (2024);
Speaker: Sergei Stukalov (JINR) -
436
Production of low radioactive samples for low background experiments
Laboratories created for low-background measurements intensively carried out fundamental physics research, studying neutrinoless double beta decay, neutrino detection, etc. The level of radioactive background is the main indicator for experiments studying rare natural phenomena. One of the most important components of successful research in this field is the acquisition of materials purified from possible radioactive impurities. Fluxes are often used in low-background experiments in the manufacture of electronic devices. Literature data indicates radioactive isotopes of the elements U, Th, and K, which pose problems for low-background studies, have been found in commercially available solders.1 Therefore, it is an actual issue to develop a methodology for purchasing fluxes in accordance with the requirements for conducting low-background experiments.
In this work, we report the production process of a low-radioactive ammonium salt flux. The initial components (HCl and NH4OH) were purified from radioactive elements by sub-distillation method. It was determined that the concentration of U, Th elements in hydrochloric acid was reduced by 20-25 times by evaporating with the method of sub-distillation carried out in three stages. The syntheses of the salt was carried out in gas-liquid phases. To achieve high purity of the final product all the processes were performed in a clean room (JINR, Dubna) An instrumental neutron activation analysis, atomic emission and mass spectrometric methods have been performed to estimate the radioactivity level of the product.
Synthesized salts that meet modern requirements in terms of purity were purer than their commercial analogues and recommended for use in several of low background experiment projects by the Joint Institute for Nuclear Research.2,3
[1] D.S.Akerib et al.// NIM A. 1997. V.400. P.181.
[2] Q. Arnaud et al., Optimizing EDELWEISS detectors for low-mass WIMP searches, Physical Review D 97 (2) (2018) 022003
[3] E. Armengaud et al., The CUPID-Mo experiment for neutrinoless double-beta decay: performance and prospects (2019) [https://arxiv.org/abs/1909.02994]Speaker: Nijat Mirzayev (Laboratory of Nuclear Problems, JINR, Dubna, 141980, Russia; Institute of Radiation Problems of Ministry of Sciences and Education Republic of Azerbaijan)
-
433
-
4. Relativistic nuclear physics, high-energy and elementary particle physics Актовый зал (Санкт-Петербургский государственный университет)
Актовый зал
Санкт-Петербургский государственный университет
Convener: Григорий Александрович Феофилов-
437
Large rapidity gap events in proton-nucleus collisions at LHC energies
A dominant role of photon exchange over pomeron one in forward large rapidity gap events in proton-nucleus collisions at LHC energies is discussed. Relative contributions via coherent and incoherent pomeron-exchange and photon-exchange processes for forward large rapidity gap events in pPb collisions [1,2,3] and their A- and Z-dependences are estimated from the recent data on diffractive pp [4,5] and pPb [1] collisions at the LHC.
1. CMS Collaboration, Phys. Rev. D 108, (2023) 092004
2. Guzey V., Strikman M., Zhalov M., Phys. Rev. C 106 (2022) L021901
3. Khoze V., Ryskin M., Eur. Phys. J. C 83 (2023) 991
4. ATLAS Collaboration, Eur. Phys. J. C 72, 1926 (2012)
5. CMS Collaboration, Phys. Rev. D 92, 012003 (2015)Speaker: Dmitry Sosnov (Petersburg Nuclear Physics Institute of NRC "Kurchatov Institute") -
438
Direct photon production in p–Pb collisions measured with ALICE/PHOS
Measurement of the direct-photon spectrum provides a unique tool for testing QCD predictions and for investigating properties of the hot matter created in nucleus—nucleus collisions. Direct photons are produced in all stages of the collision, interact with hot matter only electromagnetically and leave the hot region almost without rescattering. Direct-photon spectrum at high pT imposes constraints on nucleon PDFs and allows to fix the initial state of the collision and the number of nucleon—nucleon collisions. The temperature of the hot fireball created in a heavy-ion collision and development of its collective flow can be studied via measurements of low-pT direct-photon spectrum and collective flow.
The most straightforward method of calculating direct-photon yield is the subtraction method based on subtracting the spectrum of photons originated from decays of final hadrons from the inclusive photon spectrum. Another method is the tagging method, where photons consistent with an assumption of coming from π0 decays are removed from the spectrum, with subsequent correction for the corresponding signal loss effects.
In this talk we present results of measurements of the direct-photon spectra in p–Pb collisions at LHC energies obtained with different methods, discuss ways of improving their accuracy and compare experimental results with theoretical predictions.
Speaker: Dmitry Averyanov (NRC "Kurchatov Institute") -
439
Latest results of searches for invisible Higgs Boson decays in events with vector-boson fusion signatures in the ATLAS experiment
This report presents an overview of the latest results and research methodology of the search for Higgs boson decay into Dark Matter particles, during the process of Higgs boson production in the vector boson fusion [1]. The results were obtained in the ATLAS experiment at the Large Hadron Collider (LHC) using data collected during the Run II of LHC ($\sqrt{s}$ = 13 TeV) and were interpreted in the context of models where the Higgs boson acts as a portal to dark matter, where limits are set on the scattering cross section of weakly interacting massive particles and nucleons [2].
Assuming the Standard Model cross section for the Higgs boson, an upper limit of 0.145 was set on the branching fraction into DM particles at 95% confidence level, with an expected limit of 0.103. Obtained values at ATLAS experiment were compared with the results of direct searches experiments [3].
Further plans for the ATLAS experiment to study this process using partial Run 3 data are also presented.- ATLAS Collaboration, Journal of High Energy Physics 2022, 104 (2022)
- G. Arcadi, A. Djouadi, and M. Raidal, Physics Reports 842, 1–180 (2020)
- M. Zaazoua, L. Truong, K. A. Assamagan, and F. Fassi, Letters in High Energy Physics 2022 , 270 (2022)
Speaker: Marina Pokidova (NRC Kurchatov Institute PNPI; SPbPU) -
440
Average transverse energy density for pions, kaons, φ-mesons and Ω-hyperons in the most central A+A collisions at RHIC and LHC
We study the behavior of the average transverse energy density (<dEt/dy>) of various identified particles produced at midrapidity in relativistic nucleus-nucleus collisions vs. the collision energy from RHIC to LHC. The analysis covers pions and 3 types of particles with strangess: kaons, φ-mesons (1020) and Ω-hyperons (Ω⁻ and anti-Ω⁺) identified in central Au+Au and Pb+Pb collisions at energies from √sNN = 39 GeV to 2.76 TeV. For each type of particles 'i", used in the present work, values of <dEt/dy>i were obtained in our previos studies [1,2].
The dependence of (<dEt/dy>) on the √sNN is well approximated by a power function of the form Q*(√sNN)ⁿ. An interesting discovery is the statistical indistinguishability of the power law fits with parameter n for all studied particles (Ω, φ, K, π). This leads to a remarkable property: the ratios of the average transverse energies of φ-mesons to these particles vs. the collision energy √sNN do not depend on the collisioof nucleus-nucleus interactions.
We discuss possible interpretations of the discovered energy independence of these ratios from the standpoint of particle production in the multipomeron exchange model, that provides the possibilty to estimate the value of string tension parameter of quark-gluon string clusters forrned in central A+A collisions.The authors acknowledge Saint-Petersburg State University for a research project 103821868
[1] O.Shaposhnikova, A.Marova, G.Feofilov, Physics of Particles and Nuclei 55, 1134 (2024).
[2] O. Shaposhnikova, A. Marova and G. Feofilov, Open and Hidden Strangeness with Kaons and ϕ-Mesons in Bjorken Energy Density Approach for Central Collisions from SPS to LHC, Physics of Particles and Nuclei, 2024, Vol. 55, No. 4, pp. 1134–1139. © Pleiades Publishing, Ltd., 2024.Speaker: Olga Shaposhnikova (Lomonosov Moscow State University) -
441
Global polarization of hyperons in Au+Au collisions at BES-II energies by the STAR experiment
In non-central collisions, a large orbital angular momentum is deposited into the system, generating vorticity that aligns hyperon spins through spin-vorticity coupling.
A newly collected dataset of Au+Au collisions at $\sqrt{s_\mathrm{NN}}$ = 7.7, 9.2, 11.5, 14.6, 17.3, 19.6, and 27 GeV from the second phase of the RHIC Beam Energy Scan (BES-II), obtained with upgraded detector systems, provides a unique opportunity to measure the global polarization of $\Lambda(\bar{\Lambda})$, $\Xi^{\pm}$ and $\Omega^{\pm}$ hyperons with unprecedented precision at these energies. These results provide new insights into the polarization mechanism and vorticity fields in heavy-ion collisions as well as additional constraints on the properties and dynamics of the hot and dense matter created in these collisions.Speaker: Egor Alpatov (NRNU MEPhI)
-
437
-
6. Neutron and synchrotron research and infrastructure for its realization 90(3011) (Санкт-Петербургский Государственный Университет)
90(3011)
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Convener: Антон Геннадиевич Духвалов-
442
Установка "Бета-распад нейтрона" для РК ПИК
Нейтронный приборный комплекс «Бета-распад нейтрона» будет расположен на пучке поляризованных холодных нейтронов на канале ГЭК-3 Н0. Установка предназначена для измерения электронной, нейтринной и электрон-нейтринной асимметрий бета-распада нейтрона. Необходимость эксперимента обусловлена тем, что результаты последних наиболее точных экспериментальных данных распада нейтрона, проведённые на уровне точности 10$^{−3}$ не могут быть описаны в рамках Стандартной модели. Основу установки составляет сверхпроводящий соленоид, создающий магнитное поле в однородной области 0.35 Тл. Электроны и протоны, образующиеся при распаде нейтрона, движутся в магнитном поле вдоль магнитных силовых линий. Для выбора заданного угла вылета электронов используется эффект магнитного зеркала за счет создания области с более сильным магнитным полем с величиной индукции 0.88 Тл. Область распада выделяется по протонами, которые будут дополнительно ускорены электрическим полем. Для этого используется электростатическая система, позволяющая поднять напряжение в области распада до 30 кВ. Для регистрации электронов и протонов используются детекторы на входе и выходе нейтронного пучка.
Speaker: Dr Алексей Фомин (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) -
443
Analysis of structure of the PTNS vesicles based on small-angle neutron scattering data obtained at the “Yellow Submarine” spectrometer
Structure of unilamellar vesicles of the phospholipid transport nanosystem (PTNS) is analyzed based on small-angle neutron scattering data (SANS) obtained on the “Yellow Submarine” small angle spectrometer. SANS measurements were performed on polydispersed populations of PTNS vesicles in heavy water with different PTNS concentrations and with different purity of soybean phospholipids in the PTNS samples. Results of the analysis are compared with the characteristic of PTNS vesicular systems obtained earlier in the analysis of other small-angle scattering data from PTNS samples.
Speaker: Elena Zemlyanaya (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia) -
444
Корреляция между изменениями микроструктуры и электрохимическими свойствами катодного материала Prussian White для натрий-ионных аккумуляторов
Электрохимические характеристики, такие как емкость, мощность, скорость заряда/разряда, сильно зависят от структуры и микроструктуры катодного материала. Теоретически эти значения можно увеличить за счет уменьшения размера частиц материала, которое приводит к более коротким путям диффузии ионов и большей площади поверхности активного материала, контактирующей с проводящими добавками и электролитом [1]. Известно, что уменьшение размера частиц хорошо коррелирует с улучшением электрохимических свойств материалов литий-ионных аккумуляторов [2-4].
Гексацианоферрат натрия, или Prussian White, - перспективный катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов. Оптимизация его структуры и микроструктуры для дальнейшего улучшения свойств, например, стабильности при циклировании, является важной задачей для успешного коммерческого применения натрий-ионных аккумуляторов.
В данной работе было исследовано влияние механического перемола на электрохимические свойства коммерческого гексацианоферрата натрия Prussian White (Fennac, Altris, Sweden), катодного материала для натрий-ионных аккумуляторов. Исходный порошок состоит из частиц кубической формы с линейными размерами 5-20 мкм.
Рентгеноструктурный анализ порошков после их сушки при 120°С позволил выявить сосуществование двух кубических фаз (пр. гр. Fm-3m) и дегидратированной ромбоэдрической фазы (пр. гр. R-3). Фазовые в материалах изучались в экспериментах на лабораторном рентгеновском дифрактометре (PANalytical Empyrean), а также на станции СТМ Курчатовского источника синхротронного излучения (НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия). Длительное время помола, 6ч, приводит к увеличению доли ромбоэдрической фазы, что является следствием лучшего дегидратирования перемолотого порошка по сравнению с образцами с более крупными кубическими частицами (в исходных порошках Prussian White) или их фрагментами (порошки, перемолотые в течение 1ч и 3ч). Электроды на основе перемолотого порошка Prussian White демонстрируют емкость ~110 мАч/г (по сравнению с ~80 мАч/г для исходного коммерческого порошка) при скорости циклирования 10С и лучшую стабильность циклирования, сохраняя большую часть своей первоначальной удельной емкости после 300 циклов заряда/разряда, чем электроды на основе исходного материала.Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 21-12-00261).
Список источников
- A. Yamada et al., J. Electrochem. Soc. 148, A224 (2001).
- I. A. Bobrikov et al., J. Power Sources 258, 356 (2014).
- J. Ni, Y. Kawabe et al., J. Power. Sources 196, 8104 (2011).
- H. Zhang et al., RSC. Adv. 5, 11091 (2015).
Speaker: Марина Донец (ОИЯИ) -
445
Гамма – нейтронный детектор, наполненный сжатым ксеноном
Доклад посвящен созданию и исследованию характеристик разработанного на базе цилиндрической импульсной ионизационной камеры ксенонового гамма-нейтронного детектора (КГНД). Исследования проводились для двух модификаций детектора с чувствительными объемами 0,2 и 2 литра. Представлены измеренные КГНД спектры от Pu-Ве источника нейтронов. Рассмотрены реакции взаимодействия тепловых нейтронов с различными изотопами ксенона и продемонстрирована принципиальная возможность регистрации тепловых нейтронов ксеноновым гамма-спектрометром. Эффективность регистрации нейтронов таким детектором оказалось низкой. Для устранения данного недостатка в рабочее вещество детектора была добавлена примесь изотопа 3Не с большим сечением взаимодействия с тепловыми нейтронами.
Speaker: Антон Геннадиевич Духвалов (НИЯУ МИФИ) -
446
Моделирование взаимодействия нейтронов с полупроводниковыми плёнками InAs: анализ реакций и влияния на свойства материалов
В программной среде GEANT4 было проведено моделирование по взаимодействию микрокристаллов InAs с быстрыми и тепловыми нейтронами с целью определения скорости реакций (упругих, неупругих, радиационный захват), а также анализ вторичных продуктов деления на показатели восприимчивости полупроводниковой электроники к быстрым и тепловым нейтронам. Дополнительный анализ, проведенный в программной среде SRIM, позволил оценить линейную передачу энергии и пробеги вторичных частиц внутри материала.
Данный исследовательский проект имеет важное значение для понимания физических процессов, происходящих в полупроводниках при облучении нейтронами, и может привести к разработке новых методов контроля и управления свойствами полупроводниковых материалов. Полученные результаты будут использоваться для сравнения с результатами облучения образцов на реакторе с определенным нейтронным спектром, что позволит более точно прогнозировать электрофизические характеристики полупроводника и его поведение в различных условиях.
Кроме того, данное исследование может найти применение в различных областях, включая ядерную энергетику, электронику и медицинскую технику, аэрокосмическую отрасль, где понимание воздействия нейтронов на полупроводниковые материалы играет важную роль.
В докладе автор актуализирует имеющиеся результаты по моделированию и сформулирует направление дальнейших исследований.Speaker: Vladik Yamurzin (JINR FLNP)
-
442
-